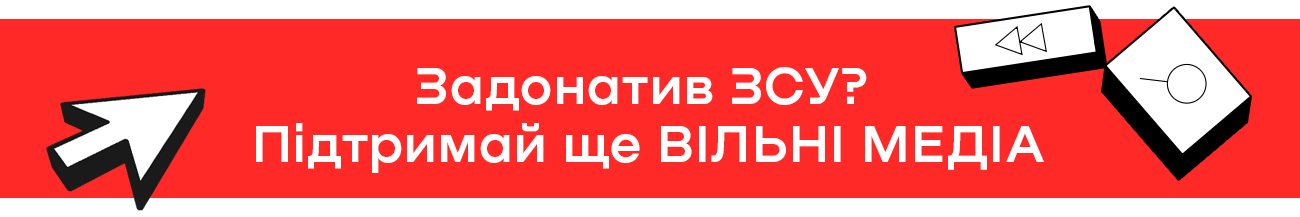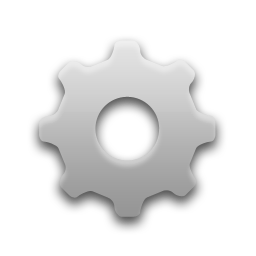Сергей Буковский: «Все мои фильмы объединяет вопрос “кто мы есть?”»
31 Грудня 2008
Сергей Буковский: «Все мои фильмы объединяет вопрос “кто мы есть?”»
47-летний Сергей Буковский, народный артист Украины, лауреат государственной премии имени Т. Г. Шевченко, знаком телезрителям по двум большим работам. Это 9-серийный фильм «Война. Украинский счет» (производство «Студии “1+1”») и фильм «Назови свое имя по буквам». Сергей также снял более десятка документальных кинокартин, имевших в свое время, в 80–90-х годах минувшего столетия, хороший фестивальный успех.
В ноябре этого года, в Дни памяти жертв Голодомора, в Киеве состоялась премьера нового фильма Сергея Буковского – «Живые». Фильм построен на воспоминаниях украинцев, переживших голод 32 – 33-х годов прошлого столетия, и был снят при поддержке Международного благотворительного фонда «Украина 3000».
Две премьеры – официальная в Украинском доме и неофициальная в Доме кинематографистов – собрали достаточно много зрителей, однако понятно, что в масштабах страны это мизер. Между тем картина заслуживает более широкого общественного и культурного резонанса.
– Сергей, каковы перспективы промо-кампании фильма, демонстрации его на телевидении, тиража и продаж на DVD?
– Работа с фильмом только начинается. 2 декабря мы показываем фильм в Колумбийском университете, 4 декабря в Гарварде.
– Для какой аудитории?
– Это университетская аудитория, этим занимается наш товарищ доктор Юрий Шевчук, лектор по украинскому языку и культуре факультета славянских языков, директор Клуба украинского кино (Колумбийский университет). Он давно и плодотворно занимается пропагандой украинского кино на американском континенте. Также к судьбе картины уже подключился Андрей Халпахчи, руководитель Фондa развития и поддержки украинского кино. И в феврале, очевидно, будет показ фильма, так называемый special screening, на Берлинском кинофестивале. Сегодня мы как раз говорили с фондом «Украина 3000» о том, что нужно завершить проект профессионально, что нужно решить много технических проблем, чтобы сделать тираж профессиональных DVD, найти дистрибьютора... Этим занимается также наш продюсер Марк Эдвардс.
– Вы надеетесь на помощь государственных структур?
– Сегодня у нас были переговоры с партнёрами, фондом «Украина 3000», мы говорили о том, что изданиe DVD-дисков в формате HD (High Definition) дело непростое и недешевое. Подключится ли к этому Министерство культуры – я не знаю… Возможно, фонд будет работать с ними – это уже дело менеджмента, я этим точно заниматься не буду. Хотя уже сегодня, когда прошло всего несколько дней после премьеры, многие меня спрашивают, где взять фильм. Мне Антон Пугач сказал на премьере: давай фильм мне – я готов показывать у себя в «Кинотеатре» (мультиплекс «Блокбастер»)…
А что касается телевизионной аудитории – это тоже надо делать профессионально: точное место в программе, анонсы и т. д. Главный вопрос в том, на каком канале его показывать, кто захочет, потому что здесь возникает комплекс разных проблем (такова доля вообще всего документального кино на телевидении). Готов ли менеджмент телеканала показывать такое кино?
Складывается пока все хорошо, и надеюсь, фильм не умрёт на пыльных полках, a будет работать. Но действительно, нужно прикладывать усилия, потому что сегодня удивить мир чем-либо очень сложно.
– Как ты в принципе относишься к тому, что сейчас происходит на телевидении с документальным кино?
– Скажем просто, я его не смотрю…
– Почему?
– Я его не смотрю, потому что это не то документальное кино, которое мне было бы интересно смотреть… То, что сегодня показывают в эфире – для меня это в большей степени телевизионные программы, даже, скорее, радиопрограммы, потому что всё-таки y кино другие законы. Ну, меня совершенно не занимают, например, проекты, которые идут сейчас по СТБ – какие-то НЛО, какие-то шпионские страсти или криминал – мне это неинтересно. Видимо, поэтому в определённые периоды работы у меня возникают противоречия с заказчиком, то есть с каналом (в свое время Сергей Буковский покинул канал СТБ, на котором возглавлял отдел по производству документального кино. – Н. Л.) Но я не вижу никакой драмы – хотят делать такое кино, пусть делают. Главное, чтоб не было пошлoсти во всём этом.
Был период, когда хорошее документальное кино вдруг прорвалось в телевизионное пространство, и началось это не у нас, а в России. Я имею в виду российский канал «Культура». Где-то в 2000 году они вдруг начали это делать, и зрители стали это смотреть… Но потом это потихонечку всё пожелтело, в эфире стали рассказывать про то, кто сколько раз женился и как много пил… Но проблески все-таки остаются. Вот, недавно попал на тот же российский канал «Культура» и увидел замечательную картину о Шпаликове, сделанную профессионально, трогательно и интересно...
– Но и ее ты тоже считаешь телевизионной программой?
– Да, это телевизионная программа. Конечно.
– В чем, по-твоему, состоит радикальное отличие того, что ты называешь телевизионной программой, от авторского документального кино?
– Сформулировать сложно, потому что эти грани очень-очень размыты, но если в документальном телевизионном кино, которое мы сегодня видим, хотя бы на 5-6 секунд прекращает вещать диктор, режиссера тут же могут «расстрелять». В телекино зрителя ведут по фильму. Зрители параллельно что-то делают: готовят, убирают, стирают, кормят детей. Если ты отвлекаешься куда-то, то дикторский текст позволит тебе не упустить канву истории. То есть, в телевизионных программах все рассказано, а не показано, в основном это засилье закадрового текста.
А кино – это пластика, это фиксированное время, движение, всматривание. Конечно же, это для очень узкой аудитории. Она посчитана, это всего лишь 2-3% от всей телевизионной аудитории, и эти 2-3% аудитории никого у нас не интересуют. Хотя именно это и есть думающая часть населения. Те, кого в прессе называют элитой. Значит, у нас воспитанием элиты не занимаются. Я не думаю, что Иван Дзюба, например, будет смотреть «Сердцу не прикажешь», если он вообще смотрит телевизор.
На Западе тоже всё непросто. Но там есть определённые ниши, иначе говоря, телевизионные каналы, и кабельные и не кабельные, где это можно посмотреть. Есть канал Аrte, есть канал ZDF, где есть такие слоты, в которых показывают хорошее кино. Аrte – это тоже 2-3% населения во Франции; в Германии, по-моему, чуть больше – 5%. Но это государственные каналы, это бюджет страны, и для таких прецедентов нужна политическая воля и какие-то политические решения. У нас же есть бедный, несчастный канал «Культура» – всё это грустное зрелище.
– Складывается такое впечатление, что на постсоветском пространстве существование телениш для думающей аудитории возможно только в условиях авторитаризма: таким образом государство, подавляя идеологической цензурой все то, что производится для массовой аудитории, оставляет для тех самых 2-3% пространство некой свободы, чтобы пар было где выпустить, так сказать… Исключением были только, пожалуй, годы перестройки, когда цензура исчезла, а бюджетные средства на производство культурного продукта еще остались…
– Уникальность перестроечного периода в том, что это был такой мощный всплеск творческой энергии, и государство, по сути, само себя высекло, допустив его. Две украинские студии, производившие документальное кино – «Киевнаучфильм» и «Укркинохроника» – они ведь изначально были созданы в советское время как идеологические заведения для обслуживания власти в том или ином виде. В той или иной мере, конечно, они умудрялись делать настоящее кино. Иногда его закрывали, иногда случайно они выходили в свет (как фильм Феликса Соболева «Я и другие»)… И потом всё это рухнуло, короткий период свободы во время перестройки закончился и эти студии, формально существующие и сейчас, уже больше мертвы, чем живы, потому что для власти это уже не нужно, это уже не тот эффективный ресурс, каким он был ранее. Появилось телевидение, и пожалуйста: вот твой канал, твоя власть, твоя партия, ты всё имеешь, и тебя самого твой же канал показывает в прямом эфире…
– Но на самом деле сейчас ведь не снимается настоящих художественных свидетельств или документов эпохи.
– Я считаю, что ещё можно что-то изменить в нашей жизни и в нашем кино, но здесь нужен, по-моему, электрошок, косметические операции не помогут, нужны точные правильные экономические и политические решения, чтобы всю эту грустную машину сдвинуть с места. Но никто ничего не хочет делать, все мы плывем, как кисель, всё куда-то катится, валится… Нужно принимать правильные решения, правильные законы, в том числе и в сфере образования. Я как-то проезжал мимо кинофакультета института Карпенко-Карого и даже зашёл во двор, постоял, посмотрел – я бы не хотел там учиться, честно говоря, потому что туда даже подходить страшно. Там есть хорошие люди – очень хорошие, достойные педагоги. Hо молодой человек, студент, приходит туда с надеждой (и оставляет, между прочим, свои деньги, и немалые, за образование) работать потом в кино, как-то планирует свое будущеe… А там – страшно смотреть: здание с облупившимися потолками, холодными батареями. Какой уж там кинематограф… Недавно по «Евроньюз» увидел репортаж о марокканском фестивале в Марракеше. Так вот, в Марокко сделали киношколу – там вообще XXIII век по сравнению с тем, что происходит у нас. Какие залы, какие аудитории, какие аппаратные...
– Не так уж трудно спрогнозировать, каким образом неадекватное отношение украинского государства к развитию культуры, науки, вообще к какому-либо гуманитарному дискурсу сказывается на интеллекте общества, на духе нации… Но давай еще вернёмся в 80-е годы прошлого столетия. Я до сих пор с ностальгией вспоминаю об одном из первых своих сюжетов в телепрограмме «Все о кино», которая выходила на УТ-1 в 1987 году. Он был посвящен твоему нашумевшему тогда фильму «Завтра праздник». Как изменилось твое отношение к своему ремеслу, своему творчеству с тех времен? Чем оно стало для тебя в более зрелом возрасте и в явно изменившихся внешних условиях?
– Сейчас я стал больше думать во время работы. Тогда я всё делал без оглядки, по наитию, по интуиции, не думая совершенно, понравится это аудитории или не понравится, будет это смотреть зритель или не будет. Сейчас я волей-неволей думаю о том, чтобы этот сюжет заинтересовал зрителя, чтобы были какие-то крючки, манки для аудитории, чтобы его смотрели, чтобы были повороты, чтобы была неожиданная драматургия. Тогда мы об этом не думали, мы делали так, как Бог на душу положит, тогда мы были молодые – и всё. А сейчас ты начинаешь думать. Думать всегда надо, конечно. Это как в спорте – Бубка сегодня прыгнул, скажем, 6,15 (я не знаю, сколько он прыгает), но завтра он же не прыгнет 7 метров, а послезавтра восемь… Он дальше уже по сантиметру, по сантиметру будет добирать всю оставшуюся жизнь. Так вот и у меня такое ощущение, как прыжок. Хотя по каким-то своим пристрастиям, школе, языку, традиции я думаю, во мне все равно остается так, как было. Так в нас закладывали эту программу.
– Что именно закладывали, можешь уточнить?
– Интерес к языку кино, пластике, изображению, кадру, прежде всего, настроению этого кадра, протяженности его во времени – то есть к тому, что и есть кино. Я понимаю, что сегодня модно такое вечное российское застеколье, но я не приемлю этот стиль, мне не нравится этот метод бесконечного видеополива. Я видел несколько российских картин, они почему-то это очень любят…
– Например?
– Ну, вот фильм «Мать», например. Сейчас с этим фильмом носятся, он получает всякие награды, на Западе его показывают. Это такое дно человеческой жизни. Я понимаю, что там очень все печально, особенно в российской глубинке, но в фильме нет отбора, там не на что лично мне навести фокус. Сняли, что происходило – и все вошло в фильм. Режиссеры пришли в семью, скорее, сообщество по месту жительства – это даже семьей назвать трудно… Им позволили снимать всё… Были зафиксированы картинки из жизни… Но это не кино.
А почему картину смотрят на Западе? Там это экзотика, такая российская глубинка на экспорт. И ребята, которые с этого живут, очень быстро усекли всё это, и теперь тиражируют.
У нас в Украине этого нет так повально… Да и украинская традиция другая. Хотя часто «шароварщину» выдают за политическое кино. Поверьте, не вопрос это было снять в «Живых» – рассказы об ужасах голода. Мы, конечно, не одевали бабушек в праздничные одежды, но все-таки нам хотелось оставить в кадре позитивное ощущение. Хотя… когда едешь по сёлам, смотришь, как эти 90-летние бабушки живут, и когда всё это вместе складывается, собирается в единый рассказ – это печально… У меня всё время был вопрос к нашей власти: помогли бы чуть-чуть, хоть бы какую-то помощь оказали...
– Но почему ты всё-таки не спедалировал это в фильме?
– Mожно было так спедалировать, что зашкаливало бы... Но это противоречило бы их бытию: не быту, а бытию. На самом деле, несмотря на всю бедность, в каждом доме всё равно есть своя светлая комната, где есть вышитые подушки, какие-то цветы; комната, куда никто не заходит и где никто не спит, это светлица. Своя эстетика присутствовала в каждом доме, старухи – они такие…
Почему у нас иногда говорят, что украинская операторская школа очень сильная, очень хорошая, неумирающая? Даже когда ребята работают нa телевидении – вот Паша Казанцев, Рома Еленский, например. Они стоят где-нибудь в телестудии, хотя давно уже выросли из этого, но жить-то надо. И всё равно – эта школа присутствует и в их телеработах, она в кадре, в эстетике, в крупности, в свете. Ее уже не выбьешь.
– А как ты относишься к фильмам Сергея Лозницы?
- К разным по-разному. Он математик-вычислитель по первой профессии, и иногда, это бывает, начинает тиражировать и повторяться… Но у него есть хорошие очень картины, некоторые из них я очень люблю. Цикл «Пейзаж», «Портрет». Мы когда-то с Володей тоже так делали, только у нас все в одном фильме было: «Пейзаж. Портрет. Натюрморт». А вот «Артель» недавно вышла – я ее не понял, для меня что-то не сложилось. Ну, парень очень одаренный, интересный. Но он разный. Это у каждого бывает – что-то получается, а что-то нет.
– Я знаю, что ты хотел бы снять игровой фильм. И однажды уже пытался это делать – но из-за тех самых противоречий с заказчиком, о которых ты уже упоминал в связи с телевидением, в конце концов вышел из проекта. И все же – что ты хочешь реализовать в художественном кино? Какие бы задачи ты решал?
– Да, у меня уже был опыт с игровым кино, с телемуви, с компанией «Стар медиа», но, видимо, там произошло то же самое, что и с моими посещениями разных каналов. Мы просто по-разному видим вещи. Я вижу кино в длинном кадре, в паузе, а там нужно, чтобы все было понятно, чтобы было драйвово. Впрочем, я совершенно не в обиде, это был очень интересный, необычный для меня опыт, но это однозначно проще, чем документальное кино. Телевизионное кино значительно проще, там не нужно сушить мозги, главное – всё хорошо организовать. Сценарий – чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, что-то там добавил на площадке, всё уже выписано, всё уже придумано, твое дело только правильно организовать, разобраться с актерами – и вперёд. Тут же ты сушишь мозги ежедневно, ежесекундно.
– В художественном фильме есть сценарий, а в документалистике сценарий – это, по сути, формальность. Из чего же в итоге рождается фильм?
– Я бы так не сказал, потому что фильм фильму рознь. Есть фильмы, где многое можно выписать, да и в любом случае некая форма, канва нужны. Европейцы и американцы уже придумали некий «тритмент», что в переводе означает «трактовка» – это описание твоего будущего фильма, твоя концепция, твой замысел, как ты видишь будущий фильм, начиная от того, что ты хочешь этим сказать и как ты собираешься воплотить это в жизнь, из чего будет состоять картина. То есть, как он будет работать, как он будет развиваться. Это хорошая универсальная форма, и больше ничего не надо, если фильм у тебя не держится на тексте, на архивах, где нужно всё предположить, и выписать, и родить его еще за письменным столом. Но кстати говоря, существенных кардинальных изменений во время съемок «Живых» не было. Многое закладывается изначально, хотя, безусловно, в документальном кино у тебя больше внутренней и режиссерской свободы, потому что ты можешь и так сделать, и так сделать… В том же монтаже, скажем. Монтаж длится почти 3 месяца, и я зачастую меняю какие-то стыки, и совершенно меняются смыслы.
– Ты это делаешь, идя от чего, прежде всего?
– Идя от кадра, от эпизодов, потому что жизнь совершенно непредсказуема – ты планируешь одно, а в жизни всё происходит по-другому. Ты думаешь, что вот на бумаге это хорошо, даже снятый материал, который у тебя есть, ты его уже посмотрел, ты с ним разобрался, и подумал: да, вот так надо сделать. Ты приходишь, склеиваешь, а оно не склеивается.
– То есть ты стараешься вслушиваться, всматриваться в жизнь, в реальность, а не вгонять отснятый материал в некую заранее выписанную схему…
– Да. Вглядываться в материал жизни. Собственно, телевизионные форматы и телевизионные стандарты, наверное, этого как раз и не допускают, потому что там есть очень жесткие каноны и клише, и ты должен делать так, так и так. А тут ты свободен, в этом, видно, и прелесть. Хотя игровое кино тоже очень интересно.
– О многих больших творцах говорят, что они всю жизнь снимают, пишут, по сути, об одном... У тебя есть такое ощущение, что ты какую-то миссию, какой-то постоянный месседж несёшь?
– Будет не правда, если скажу, что я об этом день и ночь думаю. Но, наверное, думал, готовясь вот к премьере «Живых», готовясь что-то говорить, какие-то слова изобретать, чего я очень не люблю делать. Вспоминая «Завтра праздник», другие свои фильмы, я думаю, что всех их объединяет вопрос, который зависает в пространстве фильма и в конце фильма, – «кто мы есть?». Мы люди или массовка, которая позволяет с собой делать такие вещи, как тот же Голодомор? Да, голод ужасен, и то, что сделали, это ужасно, и как это сделали – еще ужасней. Но хорошо говорил Спилберг на премьере «Назови свое имя по буквам» (фильм С.ергея Буковского о Холокосте в Украине, снятый в 2006 году при поддержке Фонда Виктора Пинчука. – Н. Л.): почему это произошло? Потому что мы позволили это сделать. Мы позволили это с собой сделать. Мы сами виноваты. Наиболее актуальный вопрос для общества – почему это произошло? И нужно извлечь из этого нравственный урок. Вот о чем все эти истории, то, что я делаю, на мой взгляд.
– Вряд ли еще 10 лет назад ты мог предположить, что станешь автором фильмов весьма социально ориентированных, пусть даже в таком, глобализированном плане. Это фильмы «Война. Украинский счет», «Назови свое имя по буквам» и «Живые». То есть, вторая мировая в украинском измерении, Холокост, Голодомор…
– Heт, не предполагал…
– Если бы не было социального заказа и творческой, да и житейской необходимости просто работать – ты бы снимал это?
– Я думаю, что снимал бы, потому что вот телесериал «Война. Украинский счет» («Студия “1+1”») – 9 серий, мы работали два с половиной года, это была моя идея. Я хотел разобраться, как это было в действительности. И с Голодомором, в конечном счете, это было предложение с моей стороны, с нашей. И никто бы не заставил, не заломил бы руки и не сказал: вот, ты должен это сделать – у меня было на это внутренние согласие… Но я еще не дал себе окончательного объяснения, не знаю, как это произошло, но однозначно знаю, что такие темы больше не буду разрабатывать, это не прибавляет оптимизма в жизни.
– Есть уже понимание того, чем бы ты сейчас хотел заняться, независимо от того, будет ли возможность?
– Сейчас Марк Эдвардс, продюсер, с которым мы сделали две последние картины, пишет синопсис по современному французскому роману, это почти документальная история, и если найдем какие-то источники финансирования, я бы с удовольствием взялся за эту работу. Может быть, возьмусь. И есть то, что я делал бы с удовольствием, несмотря опять же на страшную тему – чернобыльскую. У нас с Андреем Загданским написан «тритмент» под названием «Эдем возвращается». Это не о ликвидаторах, не об аварии, не о самoсёлах, а о том, как природа победила человеческую цивилизацию. Цивилизация проиграла эту схватку с природой, потому что то, что сегодня происходит там… Это фантастические фактуры, превращение зоны в самый настоящий заповедник. Там можно снять очень интересное кино по пластике, без текста. Но написать-то мы написали, но я не представляю, какой должен быть бюджет, сколько, скажем, будет стоить работа одних только высококлассных специалистов, ведь технически это должно быть сделано просто в экстра-классе.
– Интересно, что тебе хочется обратиться к такому опыту, ведь вообще-то ты один из тех режиссеров, которые умеют очень профессионально работать именно с людьми в кадре...
– Не хочу я больше с людьми, ни в кадре, ни за кадром. Я лучше буду сидеть в шалаше и снимать тетерю на поляне на фоне бывшего четвёртого энергоблока.
– Сколько при съемках «Живых» у вас уходило времени на одного персонажа?
– Вначале мы были невероятно наивными, мы думали, что в рабочий день, двенадцатичасовой, сможем записывать в среднем 3 свидетельства (интервью), которые в среднем продолжались 2,5 – 3 часа, плюс переезды. Потом поняли, что погорячились, в день у нас выходило два, а под конец мы уже снимали по одному интервью. Потому что бабушки – народ очень хороший и фактурный, но они одинокие, они хотят общаться. А мы же не можем хлопнуть дверью и сказать: «Ладно, бабуля, иди спать, а мы поехали». Нам нужно общаться, говорить, располагать к себе людей. Мы всей группой проходили специальный тренинг, приезжал психолог, который давал рекомендации, как работать с этой возрастной категорией, каким образом вытаскивать детские воспоминания. Есть свои тонкости и нюансы, потому что все они были детьми в 33-м, и это всё упрятано очень далеко в памяти, и только через какие-то детали, косвенные вопросы иногда можно было что-то достать, какие-то вспышки воспоминаний…
– Давай поговорим о роли оператора в твоих фильмах и вообще в документальном кино. Ты работаешь с Володей Кукоренчуком уже много-много лет...
– Володя у нас – идеолог. У нас в группе было еще два оператора – Рома Еленский и Паша Казанцев. Настоящие мастера своего дела. С обоими мне приходилось работать и до этого фильма.
– Многое снималось с рук?
– Где-то снималось с рук, где-то со штатива. Мы использовали дышащую камеру для синхронов, для того чтобы не «прибивать мёртво» в кадре человека, чтобы синхроны всё-таки чуть-чуть дышали. Камера всё время двигалась, она дышала каждым движением. Нельзя было включить камеру и читать журнал, как это делают операторы (ведущие, очень известные) на ток-шоу, надо было всё время присутствовать там. Kрохотные комнатки, маленькие интерьеры, конечно же, естественный свет – никаких би-би-сишных заливок. Только живая камера.
– Если отвлечься от этой картины, кто такой, в принципе, оператор в документальном кино для тебя, как для режиссёра?
– Для меня оператор – это глаза и, самое главное, уши режиссера. Это твоё второе «я», потому что есть вещи, которые ты не можешь проследить даже на мониторе, как оператор увидит, так он и сделает. У нас даже на «Укркинохронике» в свое время операторы получали гонорар больше, чем режиссёры – разница там была в 20 руб., правда, но все равно...
Конечно же, это твое второе «я», конечно же, это понимание друг друга с полуслова. Сегодня великое изобретение телевидения – это монитор, телекамера, ты можешь посмотреть, исправить, дать оператору какие-то коррективы, это не то, что раньше – лимитирована киноплёнка. Но все равно в какой-то решающий момент всё зависит от того, как оператор почувствовал, перевёл фокус, акцентировал своё внимание на чём-то, перевёл панораму, ты жe не будешь этого делать – в противном случае бери и сам снимай. Кстати говоря, что очень неплохо, это практиковалось в документальном кино очень часто, не знаю, практикуется ли сейчас, но европейские, западные ребята, как правило, и режиссёр, и оператор в одном лице, потому что себе не надо ничего объяснять, ты сам снимаешь. Самое главное – обвинять никого не надо, у нас очень любят говорить: «Мне так оператор снял». Ну и дурак режиссер, если тебе так оператор снял. Всё равно виноват ты.
– Виноват-то ты, но ведь несомненен огромный вклад того же Володи в фильмы, которые ты с ним делал?
– Конечно. А как без операторского вклада? Володя сегодня свое внимание переключил в педагогику, занимается фотографией, и он с фотоаппаратом не расстаётся, делает это невероятно профессионально и интересно. И прежде чем начать съемки, мы ездили по Украине, смотрели, встречались с разными людьми и, конечно, сделали фотосессию: людей, пейзажей, каких-то объективов, и это очень помогло в понимании фильма. Bсе работали на идею, и высший операторский пилотаж – когда его не видно, когда он незаметен, так же, как и режиссерский. Если тебя видно «о, как я склеил, о, как я дал!» – это всё неправильно. Фильм – это отдельное существо, высший пилотаж режиссуры – это кино, когда вроде бы ты там ничего не делал, вроде бы оно там само всё сложилось, когда ты не видишь ни швов, ни стыков.
– Но есть же и очень монтажное кино, когда это как прием.
– Да, это как прием, но всё равно не должно быть видно, как это склеено. Всё равно лучше, когда всё снято одним куском, когда внутри что-то происходит, потому что тогда у зрителя возникает иной уровень доверия. В документальном кино очень важно доверие, нужно подтверждение, чтобы люди верили в то, что ты видишь и во что ты сам веришь, говоря проще, необходимо микрособытие в кадре. Человек говорит на камеру, вдруг у него ручка выпала, он поднял, извинился, и продолжает – и вы ему верите. Это можно придумывать и продумывать, и организовывать, но опять же, желательно делать это так, чтоб никто в конечном итоге этого не понял, чтоб никто не увидел организованности.
– Зачем тебе нужна эта вера зрителя? Что должно родиться дальше?
– А вот дальше возникает элемент соучастия, сочувствия, понимания. Это кольцо, в которое ты заключаешь зрителя, и нужно сделать так, чтоб он оттуда не выбрался. Он должен туда зайти как в книгу, как в роман... Вот книгу почитал, положил на полочку, захотел – перечитал, а в кино он должен зайти и не выйти. Это сложнее. Мы тоже думали об этом, когда снимали фильм «Живые»… Мы специально вставили какие-то смешные куски, они невероятно сокращают дистанцию между аудиторией и экраном, герои на экране живые – и всё, ты их уже полюбил, им сочувствуют. А когда с первых кадров хоронят и съедают, тогда ты никогда не поверишь. Ты либо опустишь глаза, либо переключишь канал, что сегодня значительно проще.
.jpg)
– Какую свою картину ты больше всего любишь?
– «Знак тире».
– Как возник этот фильм? Почему Вера Холодная? Ты все же и до этого, и после так или иначе снимал какие-то социальные вещи.
– Мы там тоже не ушли от социальных проблем. Вначале было слово – был сценарий Валерия Балаяна под названием «Верочка», я его почитал и сказал: «Я тебя очень люблю, но снимать я такое кино не буду»… И тогда мы сели и написали с Викторией Бондарь сценарий. (Это был как раз тот случай, когда был написан довольно подробный сценарий. Наш редактор Валя Маркова нам сказала: «Что вы задумали? Вам придется делать фильм из воздуха».) Ну и получилось такое кино о Вере Холодной, о том времени и о нашем времени. Bроде бы соединили несоединимое. Появилась в фильме Валя Либерман, монтажер, с которой я делал почти все свои фильмы на «Хронике», потом – Карабах, дочери Холодной в Сан-Франциско. Kак это все соединилось в один фильм, я уже не помню...
– Но почему именно этот фильм любимый? Почему не самые прозвучавшие, имевшие и фестивальные успехи?
– Не знаю, мы были тогда молодые, свободные, весёлые и не думали о зарплатах, гонорарах, суточных и т. д., потому что думай, не думай, всё равно у тебя зарплата 200 рублей и выше ты не прыгнешь, что бы ты ни делал, как бы ты ни старался. Это всегда было на втором плане, даже на третьем, поэтому все занимались только самим по себе кино. Хотя именно за этот фильм я получил самый почетный в своей жизни приз. Это было в Екатеринбурге, в 1992 году, и назывался он «Приз коллег – участников фестиваля». Такое было…
– Ты ностальгируешь по той атмосфере?
– Эта атмосфера... Это был уже взлет перестройки. Конец, распад Советского Союза нас застал в Сан-Франциско, нам задали вопрос: а вы знаете, что у вас там происходит? Нет, не знаем. Прилетели, а тут уже страны нет. Ездили тогда, – кстати, «Знак тире» снимал не Кукоренчук, а Толя Химич, – так вот, в Карабахе ездили тогда на какие-то операции, ликвидации, поиски мифических боевиков, ехали в машине с каким-то тротилом… Я бы сегодня вряд ли сел в такую машину... А тогда мы были молодыми, впереди была целая жизнь… А сейчас впереди уже только очертания, мне не нравится быть гостем на сегодняшнем киношном фуршете.
– Любимый замысел, который у тебя есть? У тебя же много неосуществлённых замыслов.
– Нет, у меня их немного. Знаешь, какая-то девушка спросила у Эйнштейна: «Скажите, а вот есть у вас такой блокнот, куда вы записываете свои гениальные идеи?». Он говорит, что нет – они меня так редко посещают, что я их все помню. Идеи невероятно спонтанны, и я человек спонтанный, если это долго не складывается, то пусть и не складывается, не надо вымучивать. Что-то, конечно, было, что-то уходило.
– Что ты сам сейчас смотришь? Художественное кино? Документальное? Какие последние хорошие впечатления?
– У меня дома есть своя видеополка, и время от времени мы к ней возвращаемся, всё тот же набор: «Не горюй», «Взвод», «Дорога»… Всё равно мы смотрим старые картины, вот почему-то недавно купил диск с «Мужчиной и женщиной». Пересмотрел «Голос» Авербаха, хорошая оцифрованная копия, очень хорошо сделана. Как сказала одна наша знакомая: «Сегодня такое кино смотреть никто не будет». Наверное, просто таких проблем в сегодняшнем кино не существует, где режиссер страдает, рефлексирует, как нехорошо он поступил с актрисой...
Я проводил кинопробы, или, как мне сказали, кастинг; там сидит 30 человек актеров, все в ряд. Я спрашиваю – что это такое? А мне: «Это у вас сейчас кастинг будет». Мне их стало так жалко, я сам из актёрской семьи, они сидят в поисках работы, чем-то на бордель похоже, это ужас, мне даже не по себе стало, у меня кровь в венах застыла. На каждoго претендентa дают по минуте, они тарабанят какой-то текст… Наверное, это сегодняшнее требование индустрии, всё быстро-быстро, но меня это перевернуло: а как же с актером поработать, попробовать его, поговорить, кто он, что он?...
А из документальных я видел несколько хороших картин на Московском фестивале в прошлом году. Серёжа Мирошниченко, мой коллега и товарищ, режиссёр, в рамках Московского фестиваля убедил Никиту Михалкова, что нужно делать внеконкурсную документальную секцию, собирал по всему миру документальные фильмы. 10 фильмов демонстрировались в течение 10 дней, каждый вечер мы смотрели по две потрясающиe картины. Это и голландская школа – победители амстердамского фестиваля, фильм «Монастырь», и «Четыре стихии», и «Мост»… Это совершенно не то, что мы делаем. Это своего рода фильмы-концерты, фильмы – праздники мастерства режиссуры, изобразительнo потрясающие, у нас такого кино нет, у нас о таком пока даже не догадываются… И это всё молодые ребята снимают...
– Это сейчас такая тенденция?
– Да, это тенденция. Это такие фильмы – представления о мире, о цивилизации, очень интересное кино. Я был в жюри Ереванского фестиваля летом, в июле, в документальной секции, очень много посмотрел картин, но честно скажу: ничего мой глаз не зацепило, в основном это тоже были «радиопрограммы».
– Последний вопрос хочу задать о твоих родителях. Что ты от них взял? Что для тебя остаётся актуальным в том, как они жили, как они думали, о чем они говорили, как они размышляли?
– Сложноподчиненный вопрос, и непростой мог бы быть ответ, папы уже нет. Традиция – хорошо ли, плохо ли, но я никогда не ощущал, что с меня всё началось. И не мной всё закончится, я лишь звено в этой цепи. Полагаясь на своих учителей, в том числе на родителей, я помню всех тех, кто брал меня за шиворот и вел по студии.
В нашем доме народные артисты и осветители сидели за одним столом. Всё было иначе, всё было проще, по-человечески. Я помню какие-то папины советы и переживания. Oтец всю жизнь прожил в страхе, потому что он был сын врага народа, деда расстреляли в 1937 году. Mы очень конфликтовали на идеологической почве, мама нас разнимала. Xотя сейчас я считаю, что был неправ, у каждого свое мировоззрение, и какое имеешь ты право вмешиваться и говорить, что он не так жил. Но я не мог себе представить, как же так, ты член партии, а эти партийцы расстреляли твоего отца, а ты даже не знаешь, где он похоронен... Oтец особо никогда не вмешивался в то, что я делаю.
– Но он принимал то, что ты делаешь?
– Да, принимал. Но «Войнy» он категорически не воспринял.
– Как большинство ветеранов Советской армии.
– Я спрашивал: «Почему вы туда, в Западную Украину, пошли? Кто вас просил? Кто вас туда звал? Вы освобождали? Это ты так думаешь, что освобождали». Дурак был, надо было молчать и слушать. Мы начинали спорить, вмешивалась мама… Но это другая история, другие люди.
Ну и, конечно же, меня формировала студия, «Укркинохроника», Саша Коваль, который был моим студийным наставником. Была такая позиция – 30 руб. платили, и у тебя есть наставник… Саша тогда очень возился и со мной, и с Володей Оселедчиком. Все его боготворили и любили, потом все мы выросли, поразбегались по разным улицам и городам… A тогда это помогало, мы сидели, мы писали, носили коробки, смотрели, как они это делали, ловили слова на лету. А сейчас молодые сами с усами. Всё правильно, так и должно быть.
– Ты же тоже был руководителем курса, и твой ученик Игорь Стрембицкий получил приз в Каннах за свой первый, учебный, фильм «Подорожні»…
– Да, Игорь сейчас в Харькове. Он чуть ли не второй режиссёр, локальный продюсер, на фильме «Дау» (режиссер Илья Хржановский). Это большая российская картина, говорят, частично и украинская. Там серьёзный размах, серьёзная подготовка, год подготовительного периода, тысячи локаций, массовок, это очень серьёзные молодые ребята, которые делают очень серьёзное кино. Мне, к сожалению, не удалось посмотреть, говорят, что потрясающая картина, серьёзные такие перфекционисты, не «заробитчане». Я доволен, что Игорь сейчас там, потому что здесь он бы не мог выучиться, здесь он, бедный, пропадал – играл в какие-то компьютерные игры. Xодить на поклоны к Минкульту он не будет никогда, я его хорошо знаю, телевидением он наелся сполна. Я считаю, что он готов что-то делать сам, человек он очень способный, не просто случайно свалилась эта каннская ветвь.
Меня посещала мысль сделать какую-то очень серьёзную, настоящую, во всех смыслах, киношколу. В ней нужно предусмотреть специальную систему скидок (нельзя сегодня со студентов брать одинаковые деньги, ведь разные доходы у родителей), все в ней должно работать гибче и прозрачней, чем сейчас в существующих вузах. И – раз ты платишь деньги, то ты вправе и выбирать педагогов, каких ты хочешь. Ну и конечно, должна быть современная техника, оборудование, должны быть красивые помещения, классы, монтажные. Я об этом думаю, но это огромная работа, серьезные инвестиции. Но когда-нибудь ведь должен возродиться и в Украине институт меценатства?! Будет ли это при нашей жизни – не знаю.
Текст впервые опубликован в журнале «Детектор медіа» №12/2008
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Читайте також
Коментарі
3

истинный мариец
6259 дн. тому
Мордохаимы постирали все комменты, ну вас в Дуб с вашим Буком, хоть он и замечательный

Влад
6260 дн. тому
Грудня, Веснянко.

Ольга Веснянка
6261 дн. тому
Може 2 і 4 січня показували у Гарварді й Н"ю Йорку? Чи таки грудня?
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ