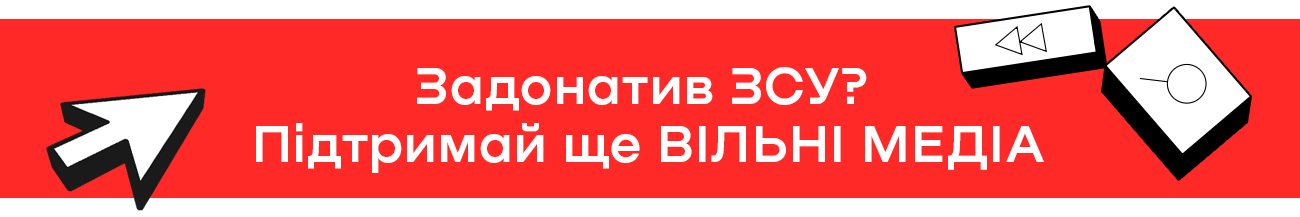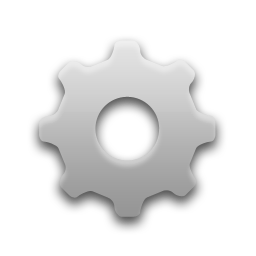Никита Сологуб, «Медиазона»: «Когда речь идет об уголовных делах, пытаться замолчать часть истории – это делать хуже»
Никита Сологуб, «Медиазона»: «Когда речь идет об уголовных делах, пытаться замолчать часть истории – это делать хуже»


О круговой поруке и коррупции в правоохранительных органах, громких и заурядных, но крайне абсурдных уголовных делах. Об избиениях полицейскими и издевательствах начальников учреждений из уст первоисточников – арестованных, бывших заключенных, воспитанников колоний. И о людях, которые ищут справедливого наказания для тех, кто должен блюсти закон и порядок. Это всего лишь немногие из тем, которые в своих материалах затрагивает 24-летний корреспондент российского издания «Медиазона» Никита Сологуб.
Известность Никите как журналисту принес текст «Обвиняемый без головы» – история о том, как судят убитого в 2013 году мужчину, чья голова потерялась в морге при проведении экспертизы. Судят за покушение на убийство престарелой пары, сын которой служил в полиции. За этот материал российский журнал GQ номинировал Никиту на премию «Человек года» в категории «Журналист года».
До «Медиазоны» Никита работал в издании «Русская планета», где по большей части занимался околокриминальными темами и писал тексты, связанные с правозащитой. Свой интерес к криминально-судебной журналистике Никита объясняет тем, что истории, о которых он пишет, более кинематографичны, чем те, которые связаны с политикой, а обычные люди – намного интереснее.
В интервью «Детектору медиа» журналист рассказал о том, почему в Украине с получением информации от правоохранительных органов «все более прозрачно», о своем убеждении, что не должно быть моральных дилемм в выборе того, о чем можно и нельзя рассказывать, и о том, как подсудимым мстят за огласку в СМИ.
– Никита, профильное образование у тебя журналистское, но ты компетентно пишешь на темы, в которых важно быть юридически подкованным. Какой, условно, ликбез нужно провести для себя перед тем, как приступать к работе в такой тематике?
– Это все приходит с опытом, когда сталкиваешься с такими темами, пытаешься в них разобраться, автоматически запоминаешь статьи Уголовного кодекса и отличаешь подозреваемого от обвиняемого, подследственного от арестованного. Поначалу я сверялся с законодательными нормативами, а теперь знаю все практически наизусть. Чем больше ты над этим работаешь, тем больше откладывается в голове. На самом деле, журналистское образование тут ни при чем. Когда я учился, и учился довольно плохо, у нас, по-моему, был предмет, как-то связанный с изучением УК, который я не посещал. Уже после того, как закончил университет, самостоятельно начал вникать во все. Когда пишу на криминальные темы, всегда прошу материалы уголовного дела, несмотря на то, что это огромные объемы информации, прошу адвокатов или потерпевших прислать как можно больше всего, что у них есть – материалы следственных проверок, протоколы осмотра места происшествия. Я все это дня два-три читаю, потом в какой-то момент складывается общая картина, когда ты настолько вник в эту историю, что можешь изложить ее своими словами. Все тексты, которые опубликованы на «Медиазоне», я написал за один день, остальное время трачу на сбор фактуры.
– По сути, самое важное для твоих текстов – это поиск и сбор информации. Какими источниками ты пользуешься, свободно ли получаешь к ней доступ, в том числе, есть ли в правоохранительных органах инсайдеры?
– Я так понимаю, в Украине немного другая ситуация. В России правоохранительные органы, следственный комитет, прокуратура и полиция вообще не контактны, от них добиться какой-то информации невозможно, и ты ограничиваешься тем, что их пресс-служба публикует на официальных сайтах. В Украине, насколько я знаю, если ты пошлешь официальный запрос, то тебе могут дать номер телефона следователя. У вас все более прозрачно. Мой коллега, Егор Сковорода, который в «Медиазоне» пишет про Украину, пытался собрать информацию о россиянах, находящихся сейчас в украинских тюрьмах по делам, связанным с войной. Он заметил, что у вас есть реестр всех адвокатов, по которым можно узнать, в каких уголовных делах они участвовали. У нас все это более закрыто, и поэтому приходится окольными путями добывать информацию.
Допустим, если я, например, увидел новость на сайте прокуратуры или следственного комитета, то часто не могу найти, кроме как через правозащитников, контакты адвоката. Однажды из-за дела пришлось лететь в Самару – это довольно далеко от Москвы, на самолете пару часов – только для того, чтобы сходить в суд и узнать, как вообще зовут адвоката, а потом я просто улетел и позвонил ему. Иногда люди сами хотят рассказать историю, на почту приходит какая-то информация, делятся своими контактами, а иногда приходится разные пути искать. Что касается инсайдерской информации, то конечно, у кого-то в редакции есть знакомые в МВД, ФСКН. Но в силу специфики своей работы эти структуры не публикуют данные до тех пор, пока им не разрешит это сделать начальство. В России так устроено, что если какое-то издание публикует текст по источникам, значит, эта структура захотела, чтобы информация была оглашена.
Если в «Коммерсанте», например, пишут большую заметку про нашумевшее дело – задержание вора в законе Шакро Молодого, о котором было очень мало сведений – со ссылкой на источники в правоохранительных органах, то очевидно, что это люди в ФСБ захотели рассказать свою версию. Сделать это у себя на сайте они не могут, конечно же. То есть это не какая-то журналистская удача, а целенаправленно ведомство приняло решение слить определенную информацию. У нас такого нет, нам никто не сливает. Единственный бонус «Медиазоны» в этом плане в том, что у нас очень тесный контакт с правозащитными организациями и через них мы, в большинстве случаев, узнаем что-то первыми.
– Интересно, как ты находишь свои истории – если говорить не о громких делах вроде банды ГТА, а, например, о рассказе бывшего заключенного колонии о превышениях полномочий тамошнего начальника или монологе беспризорника о жестокости учреждений, в которые попадают уличные дети.
– Это всегда происходит случайно, я вижу какую-то новость, например, и понимаю, что потенциально это может быть большая история, начинаю ее разрабатывать. Вот, например, история про то, как в Краснодарском крае судили покойника посмертно за то, что он напал на родителей милиционера. Я просто дежурил на новостях, у нас в редакции есть такая практика, листал ленту и увидел текст в три строчки, что на Кубани судят покойника, нашел через коллег контакты и оказалась, что сама история настолько огромная, что мы о ней опубликовали три материала. То есть это все интуитивно происходит, чувствуешь, что за парой предложений стоит история. Хотя в 70% случаев ничего не получается.
Кстати, этот самый беспризорник – он в Твиттере мне в ответе написал, что хочет рассказать историю, и я с ним поговорил, оказалось, что отличная история. То есть люди часто сами мне пишут. У меня был текст про Романа Замурку – человека, который пытался обманывать наркодилеров. Это была его инициатива: рассказать историю, он понимал, что все – конец, его все равно посадят и хотел успеть до того, как будет оглашен приговор, сделать так, чтобы о его истории кто-то узнал.
– Были ли случаи, когда ситуация после текста менялась? Вот ты, например, писал о том, как отсидевший 15 лет экс-офицер доказывает свою невиновность в двойном убийстве, а родные погибших ему помогают.
– Конечно, всегда жду, что что-то изменится (смеется. – ДМ). Но в России это невозможно. Если я написал текст, из которого следует, что человек невиновен, то никакого пересмотра приговора не будет. Бывало, когда наоборот – сажали.
– Как с героем текста «Может ли мусульманин служить в МВД», которому сменили меру пресечения, и ты писал, что это такое наказание за огласку?
– Да, объективных причин не было. Я опубликовал текст и через неделю его герою изменили меру пресечения и в качестве причины следователь назвал то, что кто-то на этой записи поставил «лайк». Следователь сказал, что это сделал сам подсудимый, то есть повторно совершил преступление – опять попытался распространить экстремистские материалы. Это бред какой-то, очевидно, что это только из-за того, что герой материала не испугался общаться со СМИ и рассказал историю. В тексте, который я написал, идиотом выглядит не подсудимый, а люди, которые работают в тверском МВД. Так решили ему отомстить.
– Разумеется, ты такой исход не мог предположить. Но возникают ли у тебя моральные дилеммы, что можно писать, чего нельзя – как ты решаешь в момент отбора информации?
– Мое глубокое убеждение, когда речь идет об уголовных делах, что пытаться их замолчать – это, наоборот, делать только хуже. Иногда бывают случаи, когда человек начинает что-то рассказывать, и я хочу передать историю полностью, но он начинает сливаться – это писать нельзя. По итогам оказывается, что его все равно сажают или уголовное преследование не прекращается. Мне всегда кажется, что лучше рассказать, чтобы все знали, что человека посадили ни за что, а не пытаться уповать, что следователь испытывает какие-то эмоции, а не просто делает свою работу. В общем, мне кажется, лучше всегда, когда речь идет об уголовном преследовании, думать о худшем и не надеяться, что что-то исправится. Когда герой начинает сливаться, я пытаются объяснить, что лучше, чтобы люди о его деле знали, чем оказаться очередным заключенным без истории.
Я писал про школьника, которого судили за разжигание ненависти – комментарий в паблике во «ВКонтакте». Парень мне сначала говорил, что, мол, экзамены – он не может, потом договорились, что опубликую текст без имен и указания города. Потом он начал: «Вот это не надо писать, это убери». Парень испугался, что будут проблемы с трудоустройством, но публикация в СМИ на это не влияет. Когда ему вынесут приговор, а это сделают в любом случае, люди будут знать, что он несправедливый.
– Не было ситуаций давления на тебя из-за профессиональной деятельности? Ты часто пишешь о делах, которые хотят замолчать, в которых, например, замешаны правоохранительные органы.
– Нет (смеется. – ДМ), никогда такого не было. Было наоборот, когда говорили о «Медиазоне»: «Знаем, читаем». И среди полицейских есть, действительно, люди, которые верят в свою работу и, наверное, рады, что кто-то пишет о том, что происходит. Положительные представители правоохранительные органов реагируют положительно, а отрицательные, вот о них пишем, наверное, не очень положительно. Но никаких проблем ни у кого из редакции не было.
– Если много твоих текстов подряд читать, возникает ощущение беспомощности против происходящей несправедливости, мягко говоря, шок от абсурдности некоторых историй – как ты в этом существуешь?
– Я не то чтобы много переживаний по этому поводу испытываю. Да, это бездушно, абсурдно, это истории, какие нарочно не придумаешь. Но вот в такой реальности мы живем и пытаться убежать от этого как-то бессмысленно. Нет такого, что я, когда пишу, переживаю, не сплю по ночам – у меня профессиональная деформация.
– С какой позиции ты подходишь к написанию текста, например: «Я хочу показать, что невиновный человек сидит в тюрьме»? Ведь с одной стороны есть то, что говорят правоохранительные органы, которым, по сути, мы должны верить, а с другой – часто скомпрометированные люди.
– Надо изучить все стороны и понять мотивацию: если одна сторона врет, то почему она это делает, если другая – тоже почему. У меня нет задачи убедить кого-то в том, что кто-то виноват. Есть объективные факты, о чем-то свидетельствующие. Вот, например, у нас есть формат монолога, одним из героев которого был экс-майор Матвеев. Он отсидел пять лет не очень понятно, за что. Матвеев говорит, что сидит за свое видеообращение (к руководству страны, в котором рассказал о нарушениях в воинских частях Приморского края. Самым известным стал его видеоролик — в нем Матвеев демонстрировал склад, полный собачьих консервов. Которыми, по словам Матвеева, под видом тушеной говядины кормили российских солдат. – ДМ), а может быть, он на самом деле совершили эти преступления. Я, когда пытался в этом разобраться, понял, что объективно рассказать не могу – могу только представить его как героя, которого отправили в застенки режима. Поэтому я решил не писать полноценный материал, а дать монологом исключительно его историю. Монолог не претендует на объективность. Я пишу большие тексты, когда есть достаточно фактов, чтобы читатель сам сделал вывод, кто виновен, а кто невиновен.
Фото - medium.com