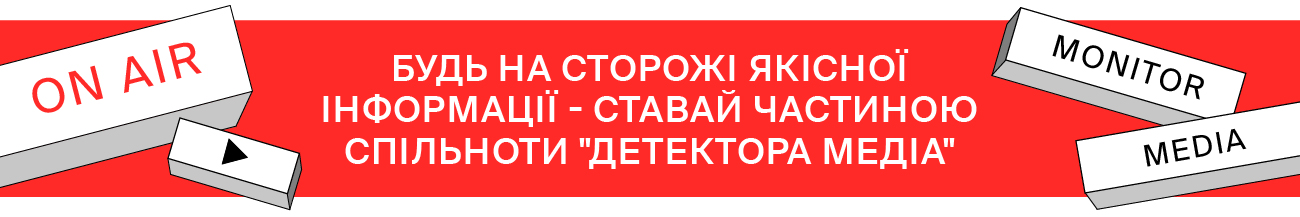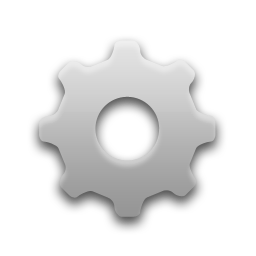Светлана Алексиевич: «Вам, украинцам, можно позавидовать»


В прошлом журналист, она написала пять документальных книг о жизни позднего Советского союза и постсоветских стран, которые она называет циклом о «Красной империи»: «У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва» и «Время секонд-хэнд». В 2015 году Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «за её многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время». Она стала первым литератором из стран бывшего СССР после его распада, кого удостоили этой награды и, что особенно примечательно, за нон-фикшн.
В этот вечер зрители полностью заполнили зал главного корпуса киевского университета: люди даже сидели в проходах. Анонсировалось, что это будет лекция, а оказалось – дискуссия, которую умело модерировал публицист Юрий Макаров. Она продолжалась полтора часа, еще 40 минут желающие – журналисты, преподаватели из Беларуси и Украины и просто молодые люди – задавали гостье вопросы и просили ее написать книгу о нашей войне. «Детектор медиа» записал основные высказанные писательницей мысли – о процессе творчества, документальной прозе, новой Украине, Надежде Савченко и «бархатной диктатуре» в Беларуси.
О приходе в литературу из журналистики
Мои родители – сельские учителя. Я выросла среди книг. Это то, что я умею – читать и писать. Мой мир в юности тоже был очень книжным. Когда я училась на факультете журналистики (в Белорусском государственном университете. – ДМ), то понимала, что мне не хватает жизни, что я должна искать себя.
Я всю жизнь читаю много философской и научной литературы, чтобы не подходить к темам поверхностно, как многие журналисты. Журналистское образование – это обо всем понемножку. Надо, как говорил Козьма Прутков, заниматься самообразованием, всю жизнь накапливать количество «антенн». Я советую это молодым журналистам.
Я семь лет проработала в газете и чувствовала себя там котом в мышеловке. То, что мне было интересно в человеке, совершенно не нужно было газете. Может, у вас теперь газеты свободные, без цензуры – и это иначе… Но это все равно мир сугубо информации. Мне хотелось говорить о другом.
Когда я окончила университет, как раз появилась книга «Я из огненной деревни» нашего писателя Алеся Адамовича – он потом стал моим учителем. Хотя я не уверена, учимся ли мы у кого-то или нас ведет чувство пути. Эта книга меня потрясла, она – гениальная. Это были рассказы жителей белорусских деревень, которые каким-то чудом спаслись от сожжения немцами. Я поняла, что подобные разговоры слышу всю жизнь. Ведь я из деревни, я знаю, как говорят эти люди. Так появилась идея книги «У войны не женское лицо». В те времена все говорили о войне, ее было видно на каждом углу. Помню, на Украине я тоже видела мужчин-инвалидов, которым приходилось торговать бельем на базарах…
Два года мою книгу не печатали, она выходила только в журналах, но попала к Михаилу Горбачеву. Она понравилась ему, и он процитировал что-то в докладе. Конечно, после этого ее напечатали, а женщины, с которыми я общалась для книги, обиделись на меня. Стали говорить, что они не герои. Но было уже прекрасное время – время перестройки. Само общество (а книга издавалась миллионными тиражами) их убеждало, что именно эта правда нужна, именно она делает их героинями.
Одна книга родила вторую, и вот где-то во время написания второй я почувствовала, что вот оно – наше время, и его очень нужно записать. А потом была война в Афганистане, потом Чернобыль – свидетелей всех этих событий я расспрашивала.
Если ты серьезно работаешь в литературе, ты всегда должен немножко обгонять время, идти впереди массового сознания. Власть не может этого простить, да и люди – не всегда… Написать правду об афганской войне было очень сложно – надо мной был суд, меня грозили убить. Но это моя профессия – писать честно.
Мои книги – это не коллекции ужасов. Меня иногда называют писателем катастроф, а я меньше всего хотела бы, чтоб обо мне так говорили. Просто так получилось, что почти все время было военное. Я писатель «красной империи» – именно об этой утопии цикл из пяти моих книг. Я рассказываю об империи с самого начала, ведь еще застала людей, которые видели Ленина и Сталина, и аж до Путина. Моя последняя книга «Время секонд-хэнд» – о том, что коммунизм не умер, как мы думали в 1990-е, когда ходили по площадям и кричали «Свобода!» Свобода не может родиться только из этого слова. Того самого «красного человека» мы до сих пор выжимаем из себя ведрами, и именно он – самое страшное, что остается после империи. Союз распался, и оказалось, что жить нужно с крысами. В человеке обнаружилось столько такого, о чем мы не знали, о чем советская литература, камуфлирующая природу человека, не писала. Оказалось, что мы все не готовы к этому времени.
Об Украине
Мне всегда приятно и в то же время грустно приезжать на Украину, ведь тут жила моя бабушка – самый родной мне человек (сама Светлана Алексиевич родилась в Станиславе – теперешнем Ивано-Франковске. – ДМ). Поэтому как бы я ни была занята, если есть возможность поехать – я все бросаю и еду. В детстве я пыталась говорить на украинском языке, но потом, уезжая, снова забывала его.
Мой дедушка – муж украинской бабушки – погиб на войне. В Беларуси, наоборот, остался дедушка, а бабушка погибла в партизанах. Я отлично помню жизнь на Украине в моем детстве. Это было бедное время, я помню женщин, которые тяжело работали в огородах, и их разговоры. Слушать людей детства на Украине и в Беларуси – это, наверное, самое сильное впечатление моей жизни. Женщины, которые потеряли на войне своих мужчин, говорили или о смерти, или о любви. Я слушала одни и те же рассказы – как он ушел, какой была их последняя ночь. Они были откровенны.
Однажды мы с бабушкой проходили мимо одного из домов, и она попросила детей не шуметь. А когда мы чуть подросли, объяснила, что в этом доме живет женщина, которая съела своих детей. Помню, я очень хотела ее увидеть, и мне это удалось – это была старая женщина, было что-то застывшее у нее в глазах, будто она была уже не живая. Этих людей нужно было расспросить… Почему еще не написана книга о Голодоморе?
На постсоветском пространстве только вы, украинцы, рванули в новую жизнь: случился первый Майдан, потом второй. Я не считаю ваш первый Майдан поражением, ведь именно он вырастил участников второго.
Вам можно позавидовать. Как бы трудно вам ни было – все равно вы уже в новой жизни. Вы идете в Европу. Медленно, по-черепашьи, но идете. Самым позитивным событием из жизни наших стран после распада СССР является происходящее на Украине. Я думаю, что миру все-таки удалось остановить Путина, санкции сработали. Может, если бы мир был так глобализирован во время Гитлера, и его остановили бы.
Я считаю себя интеллектуалом XXI века, ведь в этом веке я живу. Конечно, большой вопрос, как это может быть XXI век – когда люди так легко убивают друг друга, когда Путину удалось так быстро развязать войну на Украине, когда с человека так быстро слетает налет культуры и он превращается в зверя…
Нужно убивать идеи, а не людей. Лично мне ближе гандизм и пацифизм. Но иногда приходится жить в обстоятельствах, которые предложил сосед – вот вам, например. Вы ничего не можете с этим поделать. Конечно, это варварские обстоятельства. Нужны усилия всего мира, чтобы спасти Украину и ее сыновей – матерям. Политики должны говорить, а не орудия.
Когда я писала книгу «У войны не женское лицо», я думала, что больше таких потрясающих женщин не будет. Но вот у вас вдруг появляется Надежда Савченко – она абсолютно героиня той книги. Как она говорит, как она все понимает, как она показывает, что достоинство может быть превыше всего – даже жизни.
Ведь в наше время человек не хочет умирать, даже если известно, во имя чего. Такие люди, как Надежда – это редкость, но они у вас есть. Я знаю, что многие белорусы тут тоже погибли.
О России и Беларуси
После распада СССР ни у России, ни у Беларуси ничего не получилось – там мы живем с чувством поражения. Общество этих стран еще не готово к такому рывку, который сделали вы.
В России ведь проблема не в Путине самом, а в «коллективном Путине». Политик стал отражением желаний миллионов людей, в нем самом – униженность русских, их имперское чувство. Мне кажется, сейчас в России происходит попытка возродить не Советский Союз, а скорее царскую империю. Я считаю, что это обреченные идеи, ведь мир глобализуется.
Россия и Беларусь – союзные государства, вы знали об этом? В Беларуси у меня идет только один белорусский телеканал, который очень уступает по качеству русским, даже несмотря на жуткую пропаганду и всех этих распятых мальчиков… Там, к сожалению, работают хорошие журналисты – и именно они совершают преступление. Путин щедро платит за предательство.
В Беларуси сейчас молодые люди говорят, что если придут русские, они пойдут в леса. И Лукашенко даже что-то заявлял о создании отрядов у каждого губернатора. Это все свидетельства страха – мы не доверяем соседу.
Белорусы – опоздавшая нация. Как только у нас подрастает новое поколение и выходит на площадь – его тут же выбрасывают из институтов, и оно оказывается за границей. Мы ждем, когда подрастет новая генерация – но происходит то же самое. Беларусь, о которой мы мечтаем, – у нас маленькая есть только в Союзе художников и Союзе писателей (у нас их два, один из них – лукашенковский). Беларусь, которой мы можем гордиться, за границей.
Наш народ беспомощен, нас только 10 миллионов на маленькой территории – мы не такая большая страна, как Украина. У нас очень легко осуществить тотальный контроль. Что такое тоталитарное общество? Отдельный человек ничего не может, и делается все, чтобы люди не объединялись, чтоб страх разъединял. Вот все и ждут, чтобы кто-то принес нам свободу.
Я вернулась в Беларусь после 12 лет эмиграции. В свое время мы с нашим писателем Василем Быковым уехали – это был своего рода демарш против Лукашенко. Но у меня была и личная причина – я чувствовала, что тут все время нужно быть на баррикаде. Но баррикада – опасное место для художника. Там портится зрение и слух. Ты не видишь живого разноцветного человека, а только мишень. Но ведь искусство – безжалостно. И палач, и жертва одинаково имеют право на то, чтоб их описали. Они все люди, но вопрос искусства – почему они такие. Чтоб это понять, нужно их рассмотреть. Мне нужно было уехать, чтоб вернуть себе эту способность.
Наша белорусская диктатура своеобразна – она бархатная. Многие люди живут там и что-то делают. Прошло время, меня очень огорчило, что мои родители умерли без меня, что с внучкой я общалась только по телефону. Это ведь серьезные вещи, на самом деле. У меня ведь есть одна-единственная жизнь. Я не политический субъект, а живой человек – с победами и потерями, с мечтами. Я не уезжала навсегда, всегда хотела вернуться, что немного обижало моих западных друзей. Когда я вернулась, Путин стал именно тем Путиным, какой он сейчас. Настали еще более тяжелые времена. Но я уже была защищена – сейчас я могу говорить и писать, что считаю нужным.
Чтобы писать в моем жанре, нужно быть на месте, слушать людей, ведь их речь, ведь и сами они меняются. Через интернет это не получится наблюдать.
Я люблю и знаю Беларусь, там много моих друзей. Я вернулась, просто чтобы жить.
Объясню, почему мало говорю о Беларуси. Я писала историю утопии, а утопия говорила на русском языке и сделала огромную лабораторию, где вывели этого красного человека. Удивительным образом тогда национальные черты нивелировались, оказалось, что человек легко этому поддается. Меня часто спрашивают, почему я записывала женщин со всего мира, а не только белорусок. А у меня в книгах и цыгане есть – мы все в этом котле варились.
Конечно, я за Беларусь, за белорусский язык. Мы потеряли эти 25 лет, потеряли очень много из-за всей этой русификаторской политики. Возможно, возродить это в теперешнем глобализированном мире будет сложнее.
Что касается лично меня, Чернобыль заставил меня почувствовать, что все может исчезнуть в одну минуту. У меня было ощущение, что я просто представитель биовида, без привязки к национальности. Более того, тогда возникало чувство родства со зверями и птицами.
О процессе творчества
Очень важно в том жанре, в котором я работаю, найти нужного человека и записать его в минуты потрясенности. Я делала это и в первые месяцы после Чернобыля, и в Афганистане. Иногда критики отмечают, что герои моих книг говорят чересчур красиво. Но находясь вблизи смерти или в любви, люди именно так и высказываются. Это два состояния человека, когда он как бы поднимается на цыпочках, становится выше себя обычного. Особенно если ты не задаешь все эти журналисткие вопросы вроде: «Ну, как там у вас на войне?» Когда это не интервью, а живой разговор. Нужно содрать с человека банальность, чтоб он искренне заговорил о своей жизни.
Написание книги – это сложный процесс, это как создание витража или симфонии. Я очень медленно пишу – по 7-10 лет.
Вначале я собираю информацию, слушаю маленького человека, который исчезает бесследно в темноте времени. Того, которого никто никогда не слушал – жителей империи, которые убивали и умирали за нее. С кем-то вижусь лишь однажды, а бывает, что и по 5-7 раз. Все это складывается в симфонию, как у Мусоргского или Глинки.
Я человек уха – слушаю всегда и везде. Постоянно ношу с собой диктофон и, бывает, записываю что-то даже из разговоров в троллейбусе. Я собираю образ времени, фиксирую, что вот мы были такими людьми, которые вот так варварски жили. Я хочу, чтобы это осталось.
Конечно, я не могу весь метафизический мусор жизни, все то лишнее, что говорят, вносить в книгу. Я стараюсь собрать как можно больше точек зрения: женщин, мужчин, молодых, старых, образованных и необразованных. Жизнь ведь принадлежит всем.
Собрав материал, я должна приехать домой, снять с диктофона все эти разговоры и сделать из них искусство. Конечно, это ужасная работа. Но это моя работа, мой выбор в жизни. Я не люблю читать военные книги – у меня уже не осталось от них психологической защиты. Что меня спасает? Пребывание на природе и общение с внучкой. Да и вообще на свете есть много красивых вещей, и жизнь интересная, несмотря ни на что.
Когда кончается время накопления информации, возникают некие осевые линии.
Как художник я должна создать температуру боли, потому что страдания – это тоже форма передачи информации. Важно, чтобы появился эффект доверия у меня (как у автора) и у читателя. Мои книги – это сегодняшняя правда моего сегодняшнего понимания мира. Ведь об этих людях можно написать и другие произведения.
Я выделяю то, что важно именно на мой взгляд, начинаю выстраивать этот материал. Писатель – это мир. У меня есть мои мировоззренческие идеи. Назовем их либеральными.
Некой объективной правды можно добиться пересечением мнений. Я не говорю, что моя правда – мнение либерала – единственная. Все люди в моих книгах кричат свою правду, там немало коммунистов, к примеру.
Надо мной сейчас нет цензуры, разве что я сама – то, настолько я понимаю мир, а ведь я могу чего-то не знать. Реальность все время ускользает, и каждый схватывает только ее кусочек. Каждый ограничен своим временем и не может выскочить далеко. Но нужно попытаться сделать все, что можешь.
О жанре документальной прозы
То, что шведская академия присудила Нобеля за документальную литературу, отражает идею, которая давно витала в воздухе, вне связи со мной. Польша дала хороших авторов этого жанра – Рышард Капустинский, Ханна Краль.
Все сейчас ищут новые формы. И в искусстве – ведь мы уже не спорим, что инсталляции им не являются, и в музыке – послушайте, что делает ваш замечательный Валентин Сильвестров. Сегодня жизнь очень ускорена. У писателей уже нет столько времени, сколько было у Льва Толстого.
Посмотрите, что произошло только за десять лет: тот же ИГИЛ и терроризм, когда все мы в руках безумных одиночек, проблема беженцев. Раньше нам говорили, что будущее светлое, и всем нам там жить. После Чернобыля пропала вера и в науку, и в прекрасное будущее. Я все больше вижу, что люди во всем мире люди боятся будущего и готовы, чтоб настоящее длилось вечно.
Мир и Европа будут очень сильно меняться. Как за этим успеть литературе? Она тоже должна искать новые формы. Не формальные новшества в поэзии, а такие, с помощью которых можно было загнать в некую конструкцию многочисленное содержание. Прошло время героев – теперь каждый себя считает героем и имеет право на историю. Это то самое восстание масс. Теперь маленький человек вышел на авансцену и говорит.
Мои книги переведены на 53 языка. Одной из причин интереса к ним, наверное, является русский фактор. Россию всегда все боялись – это огромное, непонятное пространство, которое только увеличивалось. На Западе не понимают, как наши люди, получив свободу, отказались от нее. Мне приятно, когда читатели говорят, что после моей книги «Время секонд-хэнд» они это поняли. А недавно французский режиссер, который будет экранизировать эту книгу, удивил словами, что она и о французах. Он сказал, что она о том, как трудно быть человеком и какое для этого нужно мужество, даже если в магазинах все есть. Казалось бы, эти истории – далекий для них опыт, но с другой стороны – мы все равно соседи, живем в одно время и зависим друг от друга.
О работе над новыми книгами
Я напишу еще книгу о любви и книгу о старости. Свои мировоззренческие идеи я высказала в своих книгах и не хочу повторять саму себя. Я не пишу ради денег, не хочу просто множить книги. Я пишу, чтобы понять что-то. В том числе и для себя.
Сейчас я пишу книгу о любви и во время этой работы у меня возникли проблемы с мужчинами. Видимо, о многом я не догадываюсь их спросить. Я чувствую, что рассказы мужчин не такие сильные, как у женщин. Значит, у меня нет с ними совпадений. Не потому, что я не могу перейти в эту шкуру, мне нужно найти подход. Меня даже уговаривали написать о любви Михаила и Раисы Горбачевых. Это прекрасная история – но для другого автора.
Собирая материал для книги о старости, мне также трудно разговаривать с пожилыми людьми – они у другой грани жизни, и я не до конца чувствую, о чем их спросить.
Я не планирую писать книгу об Украине. Уверена, что у современной украинской литературы достаточно сил справиться с этими темами. У вас есть прекрасные писатели – Оксана Забужко, Юрий Андрухович. Я согласна, что писатель – это язык. К сожалению, я не знаю так хорошо украинского языка.
Фото – Алексей Темченко