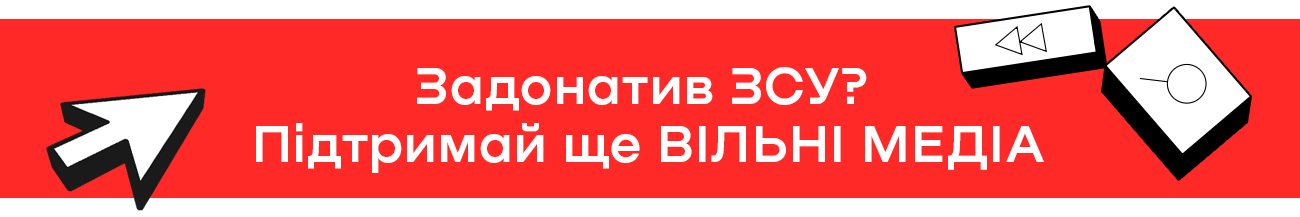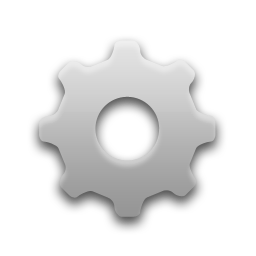Одесса-2014: Майдан, который вы не видели


Специальная программа «Путь к свободе» объединила в себе несколько международных картин о мировых политических протестах и революциях и стала своеобразным фестивальный ответом «на злобу дня». Под последней, кроме майдановского протеста зимы 2014, теперь понимается и непрекращающаяся гражданская война на Донбассе, в разгар фестивальных просмотров напомнившая о себе воздушным использованием ракетного оружия по пролетавшему над Донецком малазийскому самолету. Обсуждение этой катастрофы на фестивале попеременно переходило в не менее жаркое обсуждение «Майдана» Сергея Лозницы, до этого представлявшего Украину в основном конкурсе Канн, а после премьеры в Одессе вышедшего в украинский прокат.
До того, как обсудить, какие же идеологические противоречия неоднозначной украинской политики скрывает в себе двухчасова хроника «Майдана», стоит упомянуть и менее заметные, но все же актуальные документальные работы, вошедшие в одесский «Путь к свободе».
«Pussy versus Putin» от оставшихся анонимными российских режиссеров группы Gogol's Wives - одна из картин программы о хронике протестов группы Pussy Riot в России. Вместе с документацией известного судебного процесса над Н.Толоконниковой и М.Алехиной, фильм удивил самим фактом своего существования, не говоря уже про возможность увидеть широкий экран если не в России, то в Украине.

Египетская «Площадь» (The Square) Джехен Нуджейм (Jehane Noujaim), в оригинале созвучаную украинскому Майдану («Al Maydan»), до этого попала на Форуме Берлинале. Фильм Нуджейм - длящееся более года наблюдение режиссера, одного из участников Тахрирской революции, за протестами египтян против диктаторского режима Мубарака.
Примечательно, что комментарии героев картины, стоящих пару лет назад на Тахрирском Майдане, дают понять, как относительную невозможность альтернативных кандидатов получить президентскую власть в Египте, так и то, что исламский религиозный фундаментализм и местная критика светского государства правыми радикалами являются основной причиной раскола египетской оппозиции. Внутренние политические проблемы Египта, объясняющие в какой-то мере последующие неудачи «арабской весны», так и не закончившейся полной сменой политического режима, поданы ненавязчиво, но в то же время доступно.

Кадр из фильма «Где ты, Бухарест?»
С художественной точки зрения самой удачной документальной работой фестиваля можно признать румынскую картину Влада Петри (Vlad Petri) «Где ты, Бухарест?» (BUCURESTI, UNDE ESTI? /Where Are You Bucharest?), отмеченную в этом году на Роттердамском кинофестивале в программе «Out of the Streets» («С улицы»). Аналогично Нуджейм в Каире, режиссер в течение года снимал народные демонстрации в центре Бухареста, закончившиеся в итоге проведением референдума по отставке президента. Портреты и диалоги протестующих румын, споры о внутренне-политической ситуации в стране, безнадежность преодоления очередной коррумпированной власти, якобы представляющей оппозицию правящему президенту и, вместе с тем, трезвый оптимизм протеста - все это очень кинематографически отражено у Петри, бывшего одновременно и участником и «включенным» наблюдателем этих политических перипетий. «Где ты, Бухарест?» - наверное, лучший на фестивале пример того, как, несмотря на довольно публицистическое содержание сюжета, с его обилием прямой речи и поясняющими комментариями героев, можно сделать сложное документальное свидетельство истории, не впадая при этом в невербальный формализм или в площадную «агитку».

В связи с румынской картиной Петри невольно вспоминается прямо противоположный подход к документальному кино в «Двойной игре» (Al doilea joc /The Second Game) Корнелиу Порумбойю (Corneliu Porumboiu) - еще одна документальная работа из Румынии, попавшая в Форум Берлинале этого года, но не представленная в Одессе. Фильм, нужно сказать сразу, вовсе не об активизме или мировых революциях. Эта зарисовка закадрового диалога режиссера является примером того, насколько интеллектуально тонким может быть документальное кино, без публицистической нарочитости изображая при этом критику власти. Порумбойю ведет, казалось бы, вполне обыденный разговор с работавшим еще при коммунистическом режиме отцом - футбольным судьей. Голоса сына и отца остаются за кадром, а на экране зритель видит только просматриваемую ими обоими телевизионную видео-запись футбольного матча румынской команды 88-го года.

Как замечал Порумбойю, «в этом фильме абсолютно ничего не происходит», и около часа мы, вместе с невидимыми героями, смотрим потертую временем пленку матча.
Но в самом обсуждении того, как делалась эта телевизионная запись, почти как в духе работы памяти по Марселю Прусту, всплывает история того времени. Документальные свидетельства тоталитарности бывшей власти мы получаем не из прямых кадров ее визуального изображения, которыми так легко манипулировать при монтаже, а из односложных и урывчатых воспоминаний отца о том, как работали камеры на стадионе, каков был порядок проведения спортивных мероприятий, какова была цензура, как нужно было снимать происходящее на поле и т.д.
Помнится, что со схожей документальной стратегией работал в своей эпопее «Шоа» (Shoah) еще Клод Ланцман (Claude Lanzmann) в 80-х годах. Интересно, однако, что сама система власти у Порумбойю, в отсутствии всякого ее изображения на фоне футбола, в итоге предстает как фарс, от воспоминаний о котором и становится смешно не только отцу с сыном, но и зрителям. По этому поводу можно вспомнить первый художественный фильм Порумбойю «12.08 к Востоку от Бухареста» (A fost sau n-a fost?), где персонажи с комедийной легкостью не могут разобраться в том, был ли в Румынии повален коммунистический режим или это уже какой-то миф, «общее место». Слепое пятно истории румынской революции, в которое она превращается в финале фильма, начинается с того, что на местной телестудии устраивается дискуссия с бывшими «революционерами». Один из них пытается уверить присутствующих, что вышел протестовать против Чаушеску на главную площадь города еще до того, как в двенадцать дня из Бухареста сообщили о падении режима. Это должно означать, что он был оппозиционным диссидентом и принимал участие в свержения режима, однако факт его присутствия на площади не подтверждается, а вместо геройства на него поступают компрометирующие сведения. За неимением других доказательств, сарказм героев-свидетелей, ищущих определения этой революции и вместе с тем своего места в ней, опять переходит во всеобщий фарс, в котором ведущий дискуссии вынужден поставить следующий вопрос: а была ли эта революция вообще? Вслед за вопросами героев фильма возникают и другие вопросы: если эта революция была, то кто ее осуществлял? где эти люди? на кого они стали работать впоследствии? и что собой представляла всегда такая неоднозначная картина революции для тех, кто, по тем или иным соображениям, не принимал в ней участие?
За какие-то 15 с лишним лет (фильм Порумбойю снят в 2006 году) история революции, так и оставшаяся «немой», может превратиться в предмет ее профанаций, манипуляций и ложных выводов. Революцию Бухареста 2012 года, превращающуюся в течение года в трагический фарс с ее разочарованными и по-прежнему бедствующими участниками, показал в итоге и Влад Петри.
Что же, в таком случае, показал Сергей Лозница? Или, переформулируя в виду всего вышесказанного вопрос: что же он всем нам не показал, но что все-таки можно увидеть в его хронике киевского Майдана?
Если начать сухо, фильм Лозницы о том, что желание вытеснить коррумпированное правительство президента Януковича, пришедшее на смену результатам Оранжевой революции, объединило тысячи несогласных на центральной площади страны.
В кадре Лозницы крупными планами выстроена протестная жизнь Майдана, в которой, при желании, можно увидеть участие западных и центральных регионов Украины и показательное не-участие Востока и Крыма, в последствие потерянных новой властью. При этом, отходя на секунду от «текста» самого фильма, нельзя сказать, что Донецк или Симферополь однозначно поддерживали Януковича и свою бедность и бесправие при его правлении. Преодоление коррупции и своеволия властей, ради чего собственно и организовывался Майдан, поддерживалось всей страной в целом. Жители, к примеру, того же Донецка хотели таких же перемен в своей жизни, что и жители Киева или Львова. Однако они почему-то они не вышли на Майдан, и запечатлевать их, до начала гражданской войны на Донбассе, было не кому и не за что.
Но почему?
И вот тут-то и кроется главная проблема как у документалистов, так и у активистов и у международных наблюдателей Майдана, для которых на данный момент представляется невозможным, а может быть и ненужным понять то, что огромная часть Украины выступала против этой революции, отраженной Лозницей, не понимая и не принимая ее в том националистическом и культурно-популистском виде, в каком она проходила. Для того, чтобы осознать, почему националистическая форма Майдана, которую мы и видим в фильме, убила в конце концов изначально общий для всех смысл украинской революции, не нужно быть историком или социологом. Достаточно просто учитывать тот факт, что, из-за своей колониальной истории, до недавних пор Украина не была целостной и всему ее населению нельзя было вот так вот демонстративно предъявлять совершенно определенную политику национальной идентичности, даже в виде гуцульских песен или греко-католических молитв. Хотя, по сравнению с майдановской черно-красной символикой, принадлежащей западно-украинским про-фашистским организациям, политический инфантилизм Майдана в виде песен и танцев - не самое плохое. Флаги «Свободы», «Правого сектора» и тому подобных партий, при полном отрицании национал-фашизма на Востоке и Юге Украины, были повседневной реальностью, и именно их можно увидеть в документальном свидетельстве Лозницы в каждом третьем плане. К слову: понимал ли режиссер всю неоднозначность для украинской ситуации этих флагов, или он просто фиксировал то, что видел? В любом случае, «Майдан» удачен тем, что он репрезентирует именно эту форму украинской революции, вновь и вновь делящую Украину, условно говоря, на «своих» и «чужих», что на сей раз закончилось трагически. Возможно, сейчас, на материале кино стоит задуматься и о том, кому нужно было раскачивать эту старую лодку украинской истории сороковых годов ХХ века, в которой, как в известном фильме Куросавы «Расемон», у всех - националистов и у отрицающих украинский национализм - своя правда. Ненависть на тех, кого на Востоке Украины именуют «майдановскими бандеровцами», вне ультпраправой программы упомянутых организаций не имеет под собой никаких рациональных причин. Тем не менее, ни один грамотный политик ни стал бы проводить в Донецке или Харькове так называемую «украинизацию», но именно ее в рамках Майдана стало проводить новое правительство Яценюка, таргифарсово выступающего у Лозницы в окружении испуганного хора детей. К сожалению, анализ отдельно взятой хроники «Майдана» заставляет прийти к еще более неутешительным выводам. Никто ни из протестующих либеральных сил, ни из публичных интеллектуалов страны, ни тем более политиков почему-то не хотел понять исторически сложившейся для всех нас вещи: Украина - это не монолитная страна с общей культурой, языком, военной историей Второй мировой войны и понятиями о национализме. «Путь к свободе» здесь зависит от настроений региона. Более того, понятия о том, чем был для украинских территорий колониализм Российской империи, еще не забытый красный террор Советского Союза и чем является сегодняшнее внешнеполитическое вмешательство Кремля или США в дела Украины, тоже не одно на всех. Тем не менее, смотря «Майдан» где-нибудь в Каннах создавалось впечатление, что эта форма народного протеста, основанная на показательной демонстрации культурно-исторической идентичности одной половины страны другой (которая при этом не имела своего голоса и не желала объединяться под упомянутыми красно-черными флагами «Правого сектора»), вот-вот приведет к каким-то положительным результатам. Или же, на худой конец, станет объединяющей для всех нас формой справедливости. Но она не приведет и не станет, как это и показывал еще 2004-й год. Национализмом еще никогда не устранялась олигархическая коррупция власти.
Смотря фильм Лозницы сегодня, с уверенностью можно сделать хотя бы один вывод: никто из нас до сих пор не знает, что такое Украина. Более того, той новой Украины, о которой грезит «Майдан», еще не существует, а существует ее, агонизирующий идеями национального формирования и бандитской сепарации, симулякр. И этот симулякр - разменная монета для успешных внешних провокаций. По личному наблюдению автора, никто сегодня до конца не знает и того, что такое львовский или киевский «бандеровец», бытующий сегодня в украинском словесном обиходе, как и того, за что конкретно борется с автоматом в руках донецкий «сепаратист». Не может всего этого отразить и документальное кино, работающее сейчас исключительно в области фиксации происходящего (и то сугубо выборочной, как у Лозницы), но не его, артикулированной непосредственно участниками творящейся истории, интерпретации. Возможно, почти как у Порумбойю, разве только без фарса, через те же 15 лет одна половина исторически расколотой колониализмом Украины будет испытывать вину перед другой ее половиной за то, что, организовывая сегодня свою революцию, которая и представлена в «Майдане», мы не захотели или не смогли объединить в ней всех жителей страны. Или же, занимаясь низовой политикой протеста, инициировать хотя бы политический диалог с Востоком и Крымом. Сепаратисты новопровозглашенных Донбасской и Луганской республик являются тоже правыми, и если вернуться к не раз упомянутый здесь «форме» Майдана, показанной Лозницей, то становится понятным, что по своей форме эти правые являются ответным бумерангом на правых Майдана, о которых мы предпочитает почему-то молчать. В то время как гордиться Майданом нужно только пройдя через его критику. В противном случае, все его жертвы - и это покажет вновь и вновь повторяющаяся история - были зря.
Лиза Бабенко, культуролог, арт-критик, куратор, сейчас живет в Киеве, для Kinote
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора
Иллюстрации - Kinote