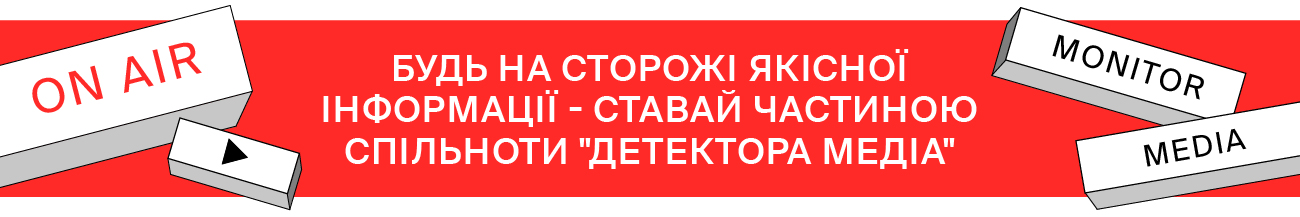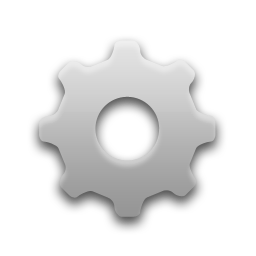ЛЮДИ КАК ЦЕНЫ. ВЗЛЕТАЮТ И ПАДАЮТ
Началось с того, что один шустрый сотрудник стал именовать генерального «великим и ужасным»
Мы ему придумали прозвище. Началось с того, что один шустрый сотрудник стал именовать генерального «великим и ужасным». Потом «великого и ужасного» сократили до Гудвина. Однажды он принес мне почитать толстую книжку о газетном магнате Бобе Максвелле, которым восхищался.
Уже через год я, в принципе, вполне могла писать эту долбаную биографию. Очень поучительную.
Маг и чародей
Он все придумал сам. Ему повезло на время. Впоследствии он широко пропагандировал идею, больше популярную в Штатах: мол, руководитель газеты не должен быть журналистом, он должен быть бизнесменом. В течение десяти лет ему это удавалось. Потому что по образованию он — инженер с какой-то сложной военной специализацией. Долго жил в прибалтийской столице, женился, работал, был счастлив — а потом грянул развал Союза и Гудвин вернулся на малую родину. Нет, ему таки повезло на время. Только тогда можно было начать с крошечной газетенки бесплатных объявлений — и спустя несколько лет раскрутиться до лучшей и богатейшей газеты с кучей приложений. Ему завидовали, слухи о нем поражали сказочностью, а он смеялся и пахал, как проклятый.
А я-то помню, как приезжали вальяжные главные редакторы изданий, названия которых с придыханием произносят в провинции. Гудвин кормил их в кабаках, водил по редакции, показывал все до мелочей, скачивал программы на диски…
Мы тогда много придумывали — в первую очередь, конечно, Гудвин придумывал, но творческую инициативу ценил, поощрял и вознаграждал. Это было невероятно. Счастливое время. Рядом с ним сутки пролетали с космической скоростью. Он генерировал идеи, он постоянно искал и предлагал что-то новое. Он кричал: «Я хочу, чтобы эта газета была лучшей в этой стране! А потом я сделаю ее лучшей в мире. Главное — верить и знать, как. Я верю — и знаю, как!». Это было заразительно. Я теперь точно знаю, что корпоративное единение и патриотический энтузиазм существуют.
Мы сутками пропадали на работе. Мы выкладывались без остатка. Наша жизнь была сплошной планеркой, когда обсуждались бесконечные проекты и выдвигались бесконечные идеи. Все хотели к нам. И многих брали. На людях Гудвин не экономил. Во-первых, он им платил — и хорошо платил. Он нас всех любил, хотя были и любимцы, конечно. Устраивал корпоративный отдых в зимней Ялте и бесконечные праздники дома. Таскал по ресторанам. Оплачивал все, везде и всюду. Устраивал в больницы. Дарил подарки. Снабжал телефонами и компьютерами. Покупал квартиры…
Смертный
Потом что-то случилось. Время честной работы стремительно завершалось. Для всех. Появились «они». Хозяева, постепенно прибиравшие к рукам все сколько-нибудь прибыльное. Гудвин, пивший ранее для веселости, стал пить всерьез. Но по-прежнему был любим и весел. И боролся. Оттягивал.
…Мы сидели с ним в кафе на крыше гостиницы. Было часов, наверное, одиннадцать утра, я пила кофе, он — уже коньяк. Я клянусь: на его глазах были настоящие слезы, и меня одолевали какие-то литературные сантименты — в голове буквально складывались фразы типа «словно обиженный ребенок, впервые столкнувшийся с несправедливостью мира» и все такое… Он сказал мне, что в последние два дня маялся за своим ноутбуком, сочиняя два жизненно важных письма. Одно — деловое, другу и партнеру, где он оставлял подробные указания о том, как распорядиться газетой, и просил позаботиться… обо всех позаботиться. Второе письмо было жене и, может быть, когда-нибудь, дочке, это письмо давалось труднее. Я бормотала: «У вас же семья», я сама уже чуть не плакала, я гордилась им, как никем никогда не гордилась, и готова была вскочить в пионерском салюте, обязуясь продолжать его дело… Он рассказал, как его вызвал к себе мэр и спросил: «Ты где себе памятник хочешь — на площади или на кладбище? Пока есть выбор», после чего по дружбе предупредил: «Все легли, ты один остался». Меня трясло, я слишком живо представила себе этот задушевный разговор — мэр у нас был хороший, добродушный хозяйственник, и если уж он? Гудвин напился довольно быстро и, приближая свое лицо к моему, больно ухватив меня за плечо, почти орал: «Зачем они это делают? Неужели они не понимают? Я же управляемый! Я вполне управляемый! Я ж не Дон Кихот, на мельницы не бросаюсь! Мне просто нужна хотя бы видимость свободы! Я — бизнесмен, в конце концов!». Потом он уставился в столешницу и говорил уже спокойно, почти внятно: «Блин, бывают ситуации, когда надо стоять… стоять… я просто хотел доказать, что эти вот слова дурацкие — «четвертая власть» — они значат что-то, они не просто слова»… Я до сих пор считаю, что эти часы на гостиничной крыше были едва ли не самыми значительными, самыми правдивыми в моей жизни. Пусть дальнейшее развитие событий показало всю их жалкую смехотворность. Что ж делать, если самые искренние наши порывы непременно оборачиваются таким вот театром.
Лилипут
Что случилось потом? Он сломался. Он сломался по полной программе. Он попросту продался, причем дешево — продаваться дорого надо было раньше, его уценили. К нему просто пришли и все забрали, жалкой подачкой кинув какой-то крошечный мизер за контрольный пакет. Нам-то, простым людям, полученная Гудвином сумма представлялась гигантской… вот только она была ничтожной по сравнению с тем, что ему причиталось на самом деле.
Дальше начался сущий кошмар. Он стал смешон и жалок — волшебник, разом лишившийся своего загадочного величия. Он суетился, исполняя самые смехотворные требования. То и дело (особенно поначалу, утверждая контроль) ему звонили и устраивали паханские разносы. Полосы возили утверждать «туда» — и по первому слову «оттуда» газету возвращали с печати, переверстывали глубокой ночью, меняли в угоду капризу, снимали материалы… Страшно и больно вспоминать. Как когда-то, редакция почти в полном составе сидела ночью на работе — только на этот раз людьми двигал не энтузиазм, а страх и безнадега рабов.
Гудвин тем временем ринулся покупать. Он покупал и покупал, лихорадочно спуская полученную подачку. Он купил дом и новую машину, он затеял какой-то безумный ремонт… Люди не узнавали его. Разговоры в редакционном баре радикально изменились: так же, как раньше, он рисовал на салфетках варианты верстки и изменения формата, теперь он рисовал планировку своей новой квартиры и расстановку мебели. Он важно сыпал именами людей, которых презирал раньше, над которыми смеялся, — теперь он угодливо ездил поздравлять их с какими угодно праздниками. Он пропадал в поездках — не вылезал с Кипра и из Испании, возвращался докрасна загоревшим и обрюзгшим и рассказывал, как целыми днями пил у бассейна. Он стал страшен. Он стал некрасив.
Как себя вести в работе, он не знал. То пытался демонстративно отстраниться от дел, неделями не появлялся в редакции и даже не отвечал на телефонные звонки, пуская все на самотек. То, напротив, развивал бурную бессистемную деятельность, «колотил понты», затевал какие-то нелепые новшества… Теперь он все время кричал. Орал. Сходил с ума. Бесился. Лез на стену. Люди закрывались в кабинетах и сидели за компьютерами, как мыши, пока Гудвин метался по коридору, истерически поливая несовершенство этого мира. Больше он никогда не извинялся. И сегодня не помнил, что делал вчера.
Теперь он ненавидел, когда люди веселились. Больше не было шумных сабантуев по поводу и без, не было корпоративных поездок, дурацких песен-спектаклей. Да ничего больше не было!!! Самое поразительное — то, как быстро люди забыли о том, что раньше было по-другому. Он и сам забыл…
Я, случается, вижу его. Мы даже здороваемся. Как совершенно чужие люди.
Я, случается, бываю в той редакции. Мы с моими бывшими коллегами встречаемся тепло. Совершенно чужое место. Мрачное какое-то. Я не верю, что когда-то пропадала здесь сутками. Я не верю, что когда-то ложилась спать, подгоняя наступление следующего дня, чтобы как можно скорее снова вернуться сюда.
Они — другие. Все — другое. Он — другой. Новый человек, материализовавшийся из ниоткуда, вместо старого, которого я знала хорошо. Иногда я думаю: может, он и вправду погиб тогда? Не сломался — и погиб по-дурацки, сохранив… блин… сохранив честь?
У зв'язку зі зміною назви громадської організації «Телекритика» на «Детектор медіа» в 2016 році, в архівних матеріалах сайтів, видавцем яких є організація, назва також змінена
* Знайшовши помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter.
Долучайтеся до Спільноти «Детектора медіа»!
Ми прагнемо об’єднати тих, хто вміє критично мислити та прагне змінювати український медіапростір на краще. Разом ми сильніші!
Спільнота ДМ