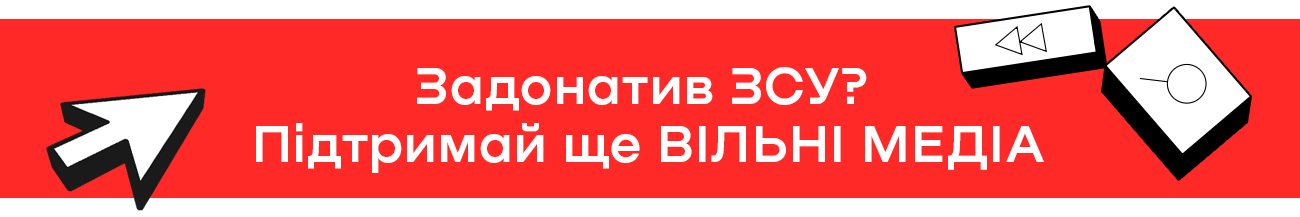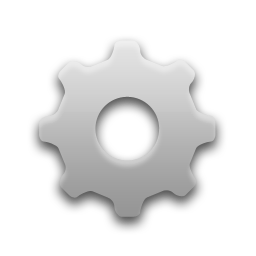«Четвертая власть» на постсоветских просторах
Один раз в жизни я был свидетелем победы хорошей прессы над нечестной властью. Правда, это было в кино. В Нью-Йорке, куда я попал впервые в жизни, как, впрочем, и за рубеж. Возле бродвейского кинотеатра пришлось выстоять огромную очередь. На фасаде здания красовались лица двух ныне всемирно известных актеров - Роберт Рэдфорд и Дастин Хофман играли в фильме "Вся президентская рать", рассказывающем о знаменитом уотергейтском скандале.
История вроде бы простенькая. Реальные герои, Боб Вудворт и Карл Бернстайн из Washington Post, размотали историю о том, как в отеле "Уотергейт" люди, работающие на Республиканскую партию, прослушивали разговоры в штабе демократов.
Публикация в газете, затем книга двух репортеров сделали их героями, потом киногероями, а Никсон вынужден был покинуть Белый дом.
Через несколько лет в Ленинграде на международной конференции по свободе слова знаменитый Бен Брэдли, редактор Washington Post, рассказывал нам всю эту историю. А мы все перешептывались - как же его за это с работы не сняли?! Еще больше недоумевали советские чиновники: "Что, Никсон не мог позвонить главному редактору и это дело пресечь?! Чушь!"
Так вот, о Никсоне. Во время визита в СССР он приехал в газету, где я тогда работал, на встречу с журналистским коллективом. Причем редакция решила не сыпать соль на раны и не спрашивать у него про Уотергейт. Политик до мозга костей, гость и без этих вопросов был крайне интересен. Но что больше всего удивило - Никсон в беседе за общим столом напрочь отказался от приглашения присесть: "Благодарю вас, но я всегда говорю стоя, встречаясь с важными людьми".
Он так и простоял перед нами два часа - человек, который еще недавно держал в руках судьбы мира.
Ричарда Никсона уже нет. Бен Брэдли оставил "Вашингтон пост". Уотергейт вошел в учебники по журналистике, в том числе и в постсоветских республиках, где по-прежнему самое расхожее сравнение с западной прессой: "Да мало ли что они там у себя напишут". Но дело не в написанном, показанном или рассказанном, а в отношении общества и власти к СМИ как политическому, социальному, независимому институту, без которого развитие любой страны невозможно. А независимость прессы не только в том, что она может не боясь огласить тайну. Но и в том, что вправе ее хранить. Лишь недавно Washington Post решила поведать, что ее источником в Уотергейтском деле был сотрудник ФБР Марк Фелт.
Застой. В «секторе обстрела» всё те же лица
Нескончаемые политические склоки утомили даже фоторепортеров
В свое время Александр Мороз, экс-спикер Верховной Рады Украины, любил называть парламентских журналистов "верхней палатой". Из-за того, что те скапливались на галерке, откуда и наблюдали за происходящим в зале парламента. При этом он не забывал позаботиться, чтобы максимально ограничить "сектор обстрела" - не в буквальном, а в переносном смысле. Но даже его повторного срока пребывания в кресле спикера не хватило, чтобы исправить шероховатости в законодательстве, позволяющие привлечь пишущую братию за вторжение в "святая святых" - частную жизнь депутата.
Это в том смысле, что если, не дай бог, опубликованное не понравится народному избраннику, СМИ можно будет легко засудить, опираясь на соответствующие пункты о конфиденциальной информации. Именно на эту пресловутую конфиденциальность ссылаются те, кто задерживает журналистов, пытающихся снять репортаж о том, чем живут обитатели государственных дач. Или, к примеру, подготовить материал об очередях за "компенсациями Тимошенко". Четвертая власть нередко в таких случаях бывает щедрой, отказываясь преследовать защитников конфиденциальности в судебном порядке. По-своему их можно понять: пока дело дойдет до рассмотрения по существу, может выйти, как у Ходжи Насреддина: либо сдохнет падишах, либо ишак. Это, наверное, заложено на генетическом уровне: судиться - только время терять.
Справедливости ради стоит отметить, что в последнее время и нардепы не слишком злоупотребляли своим правом на судебную защиту. Поняли, наверное, что любая информация - какая-никакая реклама. Исключение было сделано лишь однажды, когда "регионал" Ринат Ахметов заподозрил ущерб своей деловой репутации в материалах одного интернет-сайта, посвященных ошибкам молодости будущего олигарха.
Ринат Леонидович не стал мелочиться, создав удивительный прецедент. Честь и достоинство украинского гражданина, на которые покусилось отечественное издание, он отстаивал в... Лондоне. В результате сложилась парадоксальная ситуация: редакция считает, что британские адвокаты олигарха лукавили, заявляя, что выиграли суд. Во-первых, никто из ответчиков не был вызван в присутственное место. Во-вторых, никаких материальных свидетельств удовлетворения иска (решение суда, например) редакция так и не получила. Напомним, что Ахметов обещал выигранные деньги отдать сиротам. Хотелось бы надеяться - не английским, поскольку недавно он был включен президентом в наблюдательный совет Национального агентства по благотворительности.
Действительно, громких судебных процессов, где бы в качестве ответчиков выступала четвертая власть, стало значительно меньше. Создается впечатление, что заключен негласный пакт о ненападении, когда редкие "окопные стычки" не влияют на общую благостную картину. Кредит доверия, который власть получила после "оранжевой революции", девальвировался, но не испарился полностью.
В сухом остатке имеем удивительную картину: трудно отличить, какие СМИ стоят на страже власти, а какие - блюдут интересы оппозиции.
Критиковать или поддерживать можно какую-то деятельность. Но ее-то как раз и нет. Парламент - в ступоре. Президент, вкупе с Cекретариатом, погряз в перетягивании полномочий с главой правительства. А дискуссию, состоящую либо из междометий, либо из вариаций на тему "сам дурак", судить не только бесперспективно, но и неинтересно. Полный "антиньютон" выходит - нет действия, нет и противодействия.
Показательным в этом отношении является "дело Гонгадзе", которое, вопреки неоднократным заверениям Ющенко о "деле чести", так и не сдвинулось с места после помещения под стражу лиц, участвовавших в похищении нашего коллеги семь лет назад. В январе обвинительное заключение пополнилось новым пунктом: превышение власти или служебных полномочий, повлекшие за собой ущерб репутации государства. Снова замелькали намеки на проведение уже которой экспертизы так называемых пленок Мельниченко. Одним словом, бег по кругу.
Персона. Короткая слава медиамагната Петра Марцева
Даже в самые мутные времена в жизни наиболее энергичных СМИ может появиться окно. А в нем - независимость прессы и даже свобода слова
Этот невысокий 46-летний рыжебородый мужчина, привыкший говорить невнятно и глухо, правил Республикой Беларусь в течение шести лет - с 1994-го по 2000 год. Он не занимал официальных постов, не назначал и не снимал министров, не направлял финансовые потоки. Но его боялись, с ним воевали высшие должностные лица белорусского государства. Ибо был Петр Павлович Марцев - четвертой властью.
Да-да, уважаемый читатель, не смейтесь! Было время, когда владелец небольшой газеты, тиражом всего 18 тысяч экземпляров, был равен по степени своего влияния любому члену белорусского правительства, а уж депутатов парламента точно превосходил по значимости! Еще бы - новости и правительство, и парламент, и даже президент узнавали из принадлежавшей Петру Павловичу "Белорусской деловой газеты".
Он не собирался заниматься политикой. Для него газетное дело было обычным бизнесом. Так, во всяком случае, рассматривал его сам Петр Павлович (для близких - Петя, "Дедушка", "Учитель"). Суверенитет застал его в роли собственного корреспондента ИД "КоммерсантЪ" по Белоруссии. И Марцев начал делать то, в правильности и прибыльности чего он был уверен - газету. Деловую газету. Он назвал ее "Биржи и банки. Белорусская деловая газета". И главным чтивом в ней были огромные нудные таблицы с котировками акций, с ценами на компьютеры и принтеры, со всякой прочей мало кому, кроме профессионалов, интересной фигней. Но Марцев был хорошим газетчиком и знал, что даже профессионалы устают от сей специфической информации. Нужна "горчичка".
Поэтому он и пригласил печататься в газете ведущего публициста-аналитика Юрия Дракохруста. Совпало это аккурат с началом президентской республики. И по итогам первого тура выборов - а вернее, неосторожных реплик, поданных Александром Лукашенко на его пресс-конференции, случившейся между двумя турами голосования, - в "Биржах и банках" появилась статья, которой было суждено надолго повлиять на котировки самой газеты: "Доярка из совхоза "Беларусь" (тогда без пяти минут президент заявил, что премьер-министра найти в стране проще, чем доярку в совхоз). Ну и получил.
Получил, прочел, запомнил. С этого и началась война Александра Григорьевича с Петром Павловичем.
Прошло полгода после избрания Александра Лукашенко президентом Республики Беларусь, и он принял решение изгнать ряд негосударственных газет из государственных типографий. Украшали этот список марцевские "Биржи и банки". Еще через полгода газету попытались выпереть из государственной почты и всех остальных служб доставки прессы подписчикам. Больше всех пострадала при этом Президентская библиотека: ее сотрудники были вынуждены сами приходить и получать газету в редакции. А как иначе? Выгнать-то ее из почты выгнали, а читать все равно хотели. И утро президента, точно матерого мазохиста, начиналось с плетей, которые всыпали ему журналисты такого любимого и такого ненавистного издания.
Марцев же стал самой мифологизированной фигурой белорусского медийного пространства. С ним считались, ему завидовали. Чекисты и милиционеры считали за честь слить ему накопившийся компромат на оппонентов. А сам президент однажды публично наорал на тогдашнего шефа КГБ генерала Леонида Ерина:
- Или вы, Леонид Тихонович, успокоите свою газету, или…
Но Ерин успокоить "Белорусскую деловую газету" (так она стала называться и под таким именем навсегда осталась в истории белорусской гласности) попросту не мог. Он ее не финансировал, не "крышевал". Напротив, был момент, когда Марцеву пришлось скрываться от белорусских спецслужб, по слухам, угрожавшим ему чуть ли не смертью.
При этом Петр Павлович не был ни политиком, ни просто смельчаком, отважившимся шутить с главой государства. Он был и оставался бизнесменом, просто делавшим на газете деньги. Ее били, а она приносила прибыль. Ее запрещали, а все равно приносила прибыль. И это убеждало Марцева в том, что он идет правильным путем.
В том же убеждали его и визиты эмиссаров из России, положивших глаз на "БДГ". То Леонид Гозман привезет ему привет от Чубайса. То пришлет своего посланника всемогущий Борис Абрамович Б… (ну, не Платон же Еленин!). Но чем больше денег ему предлагали, тем больше убеждался Марцев в том, что торговый знак "БДГ" капитализируется не по дням, а по статьям. И отказывал. Так Коробочка едва не отказала Чичикову: "Может, они - мертвые души - того, дороже стоят?"
А газета ведь была живой! Она долбила и власть, и оппозицию, и все обижались на нее, но и читали ее тоже все! Все, кого интересовала политика.
Пока она еще была в нашей стране - эта самая политика.
А потом Верховному главнокомандующему и политика, и газета - надоели. И в редакцию "БДГ" пришли многочисленные контролеры. Они сидели в бухгалтерии и в рекламном отделе, отпугивая своим мрачным видом рекламодателей. И отпугнули.
И когда газета закончилась как бизнес, Марцев ее закрыл. Он не закрывал газету, пока власть с ней просто воевала. Но когда начали отрезать от армии продовольственные склады, финансировать ее за свой счет Петр Павлович не захотел.
Я работал в этой газете и ушел из нее за несколько лет до закрытия. Но я до сих пор тоскую о тех временах, когда меня останавливали на улице читатели и говорили:
- Слушайте! Это правда - то, что вы там напечатали?
Правда, правда. Пока правда остается прибыльной, существует и свобода слова. А на нет…
Подоплека. Когда у рубильника сват Президента
Никакая редакция не страшна таджикскому чиновнику, если он родственник главы государства и начальник над электричеством
Второй год подряд таджикские журналисты пытаются воевать с недобросовестными чиновниками. Теми, по чьей вине Таджикистан оказался в энергетическом кризисе. Но, однако, родственные и дружеские узы для президента Рахмона куда важнее и крепче, нежели мнение общественности.
Все началось в ноябре 2006 года с пресс-конференции, на которой глава национальной энергокомпании "Барки Точик" Шариф Самиев объявил, что с 24 ноября в Таджикистане введен сверхжесткий график подачи электроэнергии. Практически во всех районах страны суточный лимит энергии составил всего 3,5 часа. А с 28 по 30 ноября, по чрезвычайному плану энергетиков, подача электроэнергии должна была быть прекращена полностью по всей стране. Причиной отключений стало перекрытие реки Вахш для последующего строительства ГЭС.
"Это вынужденная мера, сейчас мы должны снизить объем воды в Нурекском водохранилище до наименьшей отметки, чтобы перекрыть русло реки. Ноябрь является самым удобным месяцем, в другое время остановить поток реки будет просто невозможно", - отметил Самиев.
Ясно, что к ноябрю не успели. Не смогли таджикские энергетики договориться и с узбекской стороной для покрытия энергодефицита за счет мощностей соседнего государства. Сотни предприятий остановились, тысячи мелких компаний лишились дохода. А русло все-таки перекрыли к 15 декабря и назвали это главным событием уходящего 2006 года.
Лимит не был снят до конца марта - слишком много воды слили из Нурекского водохранилища. В СМИ одна за другой стали появляться критические статьи. Но единым фронтом все медиасообщество выступило лишь после того, как веерное отключение коснулось крупнейшей типографии столицы и с выпуском опоздало большинство республиканских газет.
Главные редакторы ряда печатных и электронных СМИ Таджикистана подготовили и направили в правительство обращение, в котором говорилось о сложившейся ситуации c энергообеспечением населения страны. Резкой критике была подвергнута и деятельность госкомпании "Барки Точик".
Журналисты требовали отставки Шарифа Самиева. Ответа не последовало. В других странах за такие дела давно бы отправили в отставку. Но таджикское руководство... поблагодарило Минэнерго и "Барки Точик". Правда, после "конца света" своих постов лишились главы Душанбинской городской электросети и Душанбинского горгаза, которые, якобы, не смогли обеспечить светом столицу Таджикистана. С приходом теплых дней назревавший скандал сошел на нет.
Ситуация повторилась и нынешней зимой. Вновь возник энергодефицит. Вновь в местной прессе появились критические материалы. Однако на этот раз журналисты не были столь резки, сказался прошлогодний опыт - многие редакции просто запаслись собственными генераторами и топливом.
К ответу чиновники были призваны лишь после того, как до президента дошла информация о гибели новорожденных младенцев в роддомах в результате отключения электроэнергии. Наконец-то на ковер были вызваны председатель "Барки Точик" Шариф Самиев и министр энергетики и промышленности Шерали Гул. Но... Эмомали Рахмон дал своему свату Шерали Гулу и односельчанину Самиеву новый шанс - шесть месяцев для устранения недостатков. Что ж, ошибки будут исправлены - ведь впереди теплые дни.
Между тем власти довольно успешно научились использовать проблему электричества для обуздания "распоясавшихся" писак. Так, редакция еженедельника "Фараж", известного своими критическими материалами, подверглась нападкам со стороны сотрудников Энергосбыта. И была в итоге вынуждена выплатить крупный штраф лишь за то, что использовала в своем офисе, в квартире в многоэтажном жилом доме, четыре компьютера.
Главный редактор газеты "Неруи сухан" ("Сила слова") Мухтор Бокизода и вовсе был обвинен в краже электроэнергии, якобы в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 500 долларов. Районный столичный суд приговорил его к двум годам исправительных работ с удержанием 20 процентов от заработной платы в пользу государства.
Процесс. Гулял по городу кабанчик
Дикое животное показалось репортерам "Экспресса" бешеным. После публикации диагноз подтвердился. И тогда буйство проявили уже власти, пригрозив журналистам судом. Вплоть до Страсбургского
Едва придя к власти, Владимир Воронин провел встречу в своей резиденции с руководителями средств массовой информации. На той исторической встрече президент заявил, что СМИ - это главная арена, на которой должен быть "организован долговременный диалог власти с гражданским обществом". Ух ты, подумали редакторы, неужто в Молдавии станет еще больше свободы самовыражения?
Надо сказать, что прежние власти не слишком утруждали себя отслеживанием того, о чем пишут и говорят журналисты. Зато преемники очень быстро наладили контроль над всей пишущей братией. Тем, кто не захотел "интегрироваться", доступ к "телу первых лиц государства" - на их отчетные встречи с журналистами - перекрыли. Нечего не к месту задавать неудобные вопросы.
Нынче молдавские СМИ представляют собой довольно мощную, разветвленную структуру: около сотни газет, десятка два глянцевых и специализированных журналов, около 40 телестанций, включая эфирные, столько же радиостанций. Короче говоря, общее число вещателей приблизилось к 250.
И, тем не менее, на каждом предвыборном витке начинается очередной дележ арены - не для диалога, а для вещания "под себя". Последним громким этапом раздела СМИ между коммунистами и поддержавшей их в парламенте в 2005 году во время вторичного избрания Владимира Воронина на президентский пост Христианско-демократической народной партией Юрия Рошки стал раздел муниципальных радиостанции Antena C и телеканала EuroTV.
Эти станции давно мозолили глаза и коммунистам, и их союзникам. Еще бы - они активно поддерживали экс-мэра Кишинева, а ныне лидера парламентского альянса "Наша Молдова" Серафима Урекяна. Да и как им его не поддерживать, если в бытность его мэром (а это продолжалось более восьми лет!) эти СМИ были организованы и выделены деньги под их финансирование.
Упорно ходившие с 2005 года слухи о том, что радио достанется коммунистам, а телеканал - хадээнпистам, оправдались уже в начале 2007-го. Судебная волокита завершилась только во втором полугодии. Но и на этом еще не все - сейчас журналисты, которых новые хозяева изгнали, применив к ним принцип "запрета на профессию", ждут решения Европейского суда по правам человека.
Тем временем пример с высокопоставленных коллег берут и регионалы. В минувшем году ответственный редактор кагульской газеты "Экспресс" пожаловался, что этот приграничный городок, похоже, приобретает статус неприступной крепости. "Всюду - неприступность, полная секретность, всюду запреты, всюду табу. Особенно по отношению к журналистам. Получить необходимую информацию и добиться согласия на интервью с лицом официальным - вещи нереальные. Обыкновенный исполнитель-чинуша мнит себя Наполеоном и не просто так, а Наполеоном с большой буквы", - жаловался Сергей Жерновой, сетуя на то, что за попытку защитить права "старенькой, немощной женщины, ветерана войны, которую незаслуженно проигнорировали в мэрии, полиции, других инстанциях", редакция была призвана к ответу... в судебном порядке.
Иск подал участковый полицейский, сославшись на то, что якобы из-за газетных публикаций ему нанесен непоправимый моральный ущерб и не присвоили в срок очередное звание. При этом с журналистов горе-полицейский затребовал компенсацию, сопоставимую как минимум с тремя годовыми бюджетами издания - около миллиона леев. У судей, благо, хватило ума, и сумма компенсации была уменьшена в разы. Но факт остается фактом - нерадивого служащего критиковать нельзя...
Кстати, еще раз на эту же редакцию подали в суд по совсем пустяшному поводу. По Кагулу разгуливал кабан, что красочно и описали журналисты "Экспресса", выразив, впрочем, озабоченность тем, что дикая живность к человеку идет лишь в случае крайней необходимости. Например, ввиду болезненного состояния - бешенства. Лесники журналистам не поверили. Когда же кабана все-таки отстрелили и протестировали, то оказалось - правы были писаки!
В ответ нерадивые лесники и прочие ответработники, коих упрекнули в безразличии, которое могло обернуться трагедией - кабанчик-то облюбовал ограду детского сада, пригрозили им судом. Затяжным, вплоть до Страсбургского.
Интервью. Независимы – потому что от них ничего не зависит
Случайно брошенная фраза Нурсултана Назарбаева оказалась пророческой
"Наивно предполагать наличие в Казахстане четвертой власти, на самом деле влияющей на умы граждан государства", - заявляют сегодня пессимисты. Оптимисты, напротив, уверяют о грядущих существенных изменениях к лучшему. А что же происходит на самом деле? Об этом корреспонденту НРС рассказала руководитель международного правозащитного фонда "Адил Соз" Тамара Калеева.
- Скажите, каков характер попыток ущемить свободу слова, под каким "соусом" подаются предпринимаемые меры?
- Сегодня в области законодательства наблюдается достаточно специфическая ситуация. Когда утвердили кандидатуру Казахстана в качестве председателя в ОБСЕ на 2010 год, было обещано привести законы, в том числе и о СМИ, в соответствие с международными. То есть сделать их более либеральными. Но, как я понимаю, искреннего желания осуществить это на самом деле просто нет. Вот, в частности, предложение Министерства внутренних дел РК "немножечко смягчить уголовную ответственность журналистов", но не исключить ее. Просто удалить норму, предписывающую сажать журналистов за решетку. И при этом оставить аресты, штрафы, исправительные работы и прочие виды наказания. Мы считаем, что это на самом деле лишь косметические изменения.
В то же время власти предлагают внести гражданскую ответственность за публикацию достоверных сведений из частной жизни. Такое предложение прозвучало осенью прошлого года. Была очень большая критика. В результате инициатива немного отредактирована. Теперь она звучит как "ответственность за публикацию сведений из частной жизни, сообщенных в оскорбительной форме". Между тем у нас есть статья "Оскорбления" в Уголовном кодексе РК. Ее никто не убирал. Фактически предлагается помимо уголовной ответственности ввести еще и гражданскую.
- Можно ли чуть-чуть конкретнее остановиться на законе "О СМИ", действующем в Казахстане?
- Сейчас у нас пока действует старый закон "О СМИ", образца 1996 года. Каждый год в него вносятся изменения. Но толку от этого мало. Мы же предлагаем свой, более либеральный законопроект, который лежит в парламенте. В свою очередь Министерство культуры и информации все время говорит о том, что они подготовили собственный пакет поправок в действующий закон. Но здесь речь идет о поправках сугубо декоративных, не меняющих ситуацию в принципе.
К примеру, они предлагают освободить электронные СМИ от регистрации. Но дело в том, что в Казахстане гигантский конкурс на радиочастоты, на право наземного вещания. А отбор, мы считаем, идет на уровне цензуры. Ведь претенденты должны предоставить творческий план, продемонстрировать подготовленность коллектива. Да, вы измените процедуру лицензирования. Вот это будет существенно!
- Получается, что существенных положительных изменений казахстанским СМИ ожидать не приходится?
- Нас ожидает новый закон об Интернете. Идут разговоры об усилении ответственности за клевету, за оскорбление, за дезинформацию. Но, понимаете, общий контекст все-таки негативный.
- Есть ли статистика о том, кто из СМИ больше обращается за консультациями в журналистские правозащитные НПО? Подвергается ли дискриминации независимые издания?
- Когда клюнет жареный петух, обращаются все СМИ. И провластные, и независимые. Другое дело, что большим атакам, конечно, подвергаются последние. Если говорить о дискриминации, то одним из важных признаков является доступ к информации. Государственным изданиям (бюджетным, акиматовским) практически не отказывают в предоставлении информации. А вот частным, вне зависимости от позиции, получить информацию от чиновников зачастую трудно. Бывают случаи, когда просто не пускают в зал, откровенно хамят. Вот это очень существенный контраст между государственными и частными изданиями. И это, конечно, нарушение закона.
- Вы помните знаменитую фразу нашего президента "независимые СМИ потому и называются независимыми, что от них ничего не зависит"? Она сегодня актуальна?
- На мой взгляд, и от государственных СМИ зависит не больше. Они лишь отражают действия власти. Независимые и оппозиционные СМИ пытаются донести до власти какую-то информацию, как-то повлиять на нее. Но, увы... В общем-то, смысл фразы остается в силе.
Казуистика. За то, что назвал полицейского Робин Гудом
В Латвии уголовное дело против журналиста возбуждается на основании одного заявления истца
Три года назад Конституционный суд по иску Сармите Элерте, редактора газеты "Диена", отменил статью, предусматривавшую наказание журналиста за оскорбление должностного лица. В самом деле, в стране - члене Евросоюза, так любящей учить демократии соседних белорусов и россиян, такая норма казалась анахронизмом. Зато появилась другая - 158-я статья Уголовного кодекса. Тогда политики говорили: что никакой угрозы свободе слова, статья-то чисто декларативная. На деле она превратилась в увесистую дубинку - и не только против журналистов.
158-я статья карает за оскорбление чести и достоинства. Особенность ее в том, что суд возбуждает уголовное дело по заявлению истца, без предъявления доказательств. И человек сразу же превращается в обвиняемого. Впрочем, не только журналист.
Два года назад в Бауске пьяный водитель сбил женщину и скрылся. Его нашли, дали три года. Пострадавшая заново училась ходить, месяцами лежала в больнице, о чем и рассказала в телевизионном шоу, назвав имя преступника. Тот из тюрьмы написал иск в суд за оскорбление чести и достоинства. В действие вступила та самая 158-я статья. Женщине грозил год тюрьмы и 35 тыс. латов (71,5 тыс. долларов) штрафа. В итоге процесса, длившегося полтора года, ее оправдали. Но помимо потраченного времени, нервов и денег все это время она пребывала в статусе подсудимой со всеми вытекающими последствиями (попробуйте, например, получить визу в США с такой "анкетой").
Другой пример: в Екабпилсе журналист местной газеты, описывая действия полицейского, превысившего служебные полномочия, назвал его Робин Гудом и... был моментально осужден по 158-й статье. Потребовалось два года апелляций, чтобы Верховный суд отменил приговор.
"Недавно общался с белорусскими коллегами. У них там хватает своих заморочек, но, услышав, что происходит у нас, они, мягко говоря, удивились", - посетовал в интервью газете "Вести Сегодня" председатель Союза журналистов Латвии Юрис Пайдерс.
Нужно ли защищать общество и граждан от клеветы? Безусловно, и ни один вменяемый журналист не будет с этим спорить. Для этого есть соответствующая статья Гражданского кодекса, обязывающая отзывать неправдивые статьи и выплачивать компенсацию оскорбленным. Три года назад радиожурналист Карлис Стрейпс был вынужден извиниться перед своими оппонентками, которых в прямом эфире назвал "козами". Экс-премьер Латвии Андрис Шкеле выиграл иск у автора книги "Андрис Шкеле - легенды и мифы" Юриса Селецкиса. Журналист вынужден был отозвать порочащие Шкеле сведения и выплатить ему 10 тыс. латов (20,5 тыс. долларов) компенсации за моральный ущерб.
Но вот одно принципиальное отличие статьи в Гражданском кодексе: отозвать можно только сведения, не соответствующие действительности, недоказанные. А 158-я статья УК предусматривает наказание и за правдивые сведения. В том случае, если кто-то посчитает себя "задетым".
И еще: подавая иск в гражданском порядке, истец должен платить соответствующую госпошлину, что само по себе ограничивает "аппетиты" в смысле компенсаций за моральный ущерб. А по 158-й суммы иска выставляются бесплатно. Пользуйтесь!
"Принято считать, что эта статья задевает только журналистов, на самом деле она напрямую касается абсолютно каждого жителя Латвии", - считает юрист общества "Фемида. За справедливую судебную систему" Иварс Редисонс. Именно эта организация сегодня активно борется за отмену 158-й статьи.
MIGnews по материалам еженедельника "Новое русское слово" (Европа-СНГ)