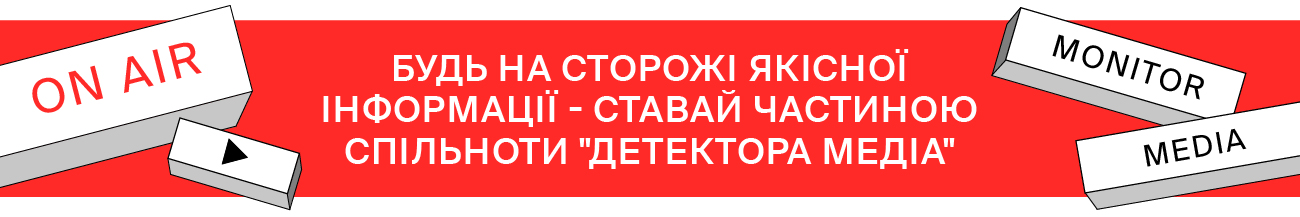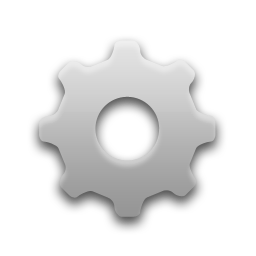Демократические стандарты советских СМИ
Когда смотришь новости на украинском телевидении и читаешь политические материалы в прессе, часто невозможно отделаться от недоумения: вроде бы и не придраться, и стандарты соблюдены, и говорили по теме, а в результате... такое впечатление, словно тебя крупно надули. Чувствуешь себя дуб дубом: смотрел, слушал, читал, а разбираться в том, что же на самом деле происходит, так и не стал.
Речь, разумеется, не сплошь обо всех СМИ, но исключений очень немного. Речь - о заведённом в Украине формате политической информации. О тех самых стандартах - писаных и неписаных.
Встретил недавно коллегу. Он теперь работает в интернет-издании - не слишком известном, но с претензией на серьезность и респектабельность. «О чём вы пишете?» - спрашиваю его. «О политике, - отвечает он. - Нет-нет, от себя - ни слова! Только обобщения: тот сказал это, а этот сказал то».
Зашел на сайт. И вправду: ангажированности, подыгрывания какой-либо политической силе там нет. По крайней мере, не бросается в глаза. Но... «аналитические» статьи - на самом деле компиляции высказываний политиков и экспертов. Единственное, что делает сам автор, - это вывод. Согласитесь: вот это и есть преобладающий в украинской политической журналистике формат.
В какой-то степени журналистам таких изданий можно посочувствовать. Ибо их работа - рутинная, не творческая. Да что там - секретарская работа, сугубо секретарская. С другой стороны, можно им позавидовать. Политиков и экспертов развелось много. Даже слишком много. Уследить за тем, что говорят они все, невозможно в принципе. А значит, невозможно и объективно подытожить их высказывания. Что делать? А всё очень просто: выбирай несколько «авторитетных» высказываний на свой вкус - и делай вывод. Пусть даже выборка будет тенденциозной и заведомо субъективной, пусть даже выбраны будут первые попавшиеся под руку высказывания - чтобы долго не возиться, а самого журналиста в передергивании не обвинишь. Вот они - цитаты, вот он - вывод, логически из этих цитат вытекающий. Замените слово «цитаты» на «синхроны» - и вы получите типичную политическую программу на телевидении.
Результат? Аудитория узнала, что сказал о событии (тенденции) политик А, чиновник Б и эксперт В. Невероятно ценное само по себе знание - согласитесь. О самом же событии аудитория как знала понаслышке, так и знает. Происходит подмена события: вместо объективного факта таковым становятся субъективные мнения и высказывания «авторитетов».
Всё это сильно отдает сословным обществом: есть «белая кость», чей каждый чих становится Событием, и есть плебс, которому только и отведена роль, что поглощать эти чихи и с нетерпением за ними следить.
Особая тема - авторитетные эксперты. На упомянутом сайте (а по телевизору разве нет?) некоторые из них поражают своим... не столько даже невежеством, сколько сугубо обывательскими суждениями. И факты, положенные в основу их суждений, фиктивны, и логика хромает на обе ноги. Но - эксперт, это звучит гордо! Вон, и регалии упомянуты громкие. Директор института, не как-нибудь!
Вот только всё дело в том, что какой-нибудь «Институт межконтинентальной конфликтологии» (прошу прощения, если таковой существует на самом деле - я имел в виду общую тенденцию), скорее всего, зарегистрирован как общественная организация, не более. Лично знаю несколько таких: штат - супружеская пара, систематической деятельности - никакой, зато есть счет в банке (на котором лежит минимально необходимая для поддержания счета сумма), есть печать, есть громкое название и, следовательно, не менее громкие регалии. Немного самопродюсирования - и популярный эксперт готов, телеканалы и текстовые издания своими приглашениями просто разрывают его на части. А на самом деле - типичные «Рога и копыта».
Откуда в данной ситуации растут ноги? Посмею утверждать: из советских стандартов журналистики. Точнее, из советской школы журналистики. Той самой школы, в которой учились нынешние профессора и доценты журналистских вузов, традиции которой они теперь сеют в качестве разумного, доброго и вечного. Традиции, которыми они до сих пор дышат, мыслят и живут - возможно, сами того не осознавая.
Это именно в советской журналистике главным событием было: «Дорогой Леонид Ильич сказал». Это программа «Время» и газета «Правда» только и делали, что бесконечно излагали мудрые мысли и решения ЦК КПСС и совета министров. Это в СССР журналист был передающим устройством, обезличенным и лишенным права на собственный голос, собственное Я. Это в СССР была «мудрая партия» - субъект всего в мире сущего, которая создавала события, сама же их комментировала и сама оценивала. И был «дурной народ», которому была отведена роль «объекта воспитания».
Именно в советской школе журналистики громкие «экспертские» регалии были пропуском на экран и газетные страницы: тот же «Институт межконтинентальной конфликтологии» мог быть не чем иным, как солидным полубюрократическим заведением при ЦК КПСС или, в крайнем случае, при АН СССР.
Именно в советской журналистике аналитики не существовало как жанра, а публицистика была рудиментарной, и поэтому стандарты были общими для всех жанров, а разницы между жанрами словно бы и не существовало: все журналисты в равной степени были бойцами партии. Та же зачаточная публицистика, что существовала, была «идеологически правильной», а поэтому оперировала заранее заданными оценками и стереотипами, которые не нужно было ни доказывать, ни обосновывать.
Времена изменились? Да - в том плане, что «мудрых партий» стало множество, одна другой мудрее. А советская школа журналистики всё диктует и диктует: слово партийного представителя - всё, гражданская позиция журналиста - ничто. Словно отношения власти и общества не только не изменились, но и не могли измениться. Не отсюда ли партийность, ангажированность многих и многих СМИ? Не отсюда ли их склонность оценивать события исходя не из его сути, а из того, кто из политиков как о нём отозвался? Не отсюда ли излишняя персонифицированность политического медиаконтента, временами напоминающая обычные сплетни?
Да и разве только это? Не отсюда ли склонность наших СМИ к цензуре? Брать цитаты у власти и оппозиции поровну или в соотношении пять к одному - станет ли зритель или читатель высчитывать это с калькулятором? Для него ничего не изменится: как были выпуски новостей сплошными цитатниками, так и остались.
Не отсюда ли склонность наших СМИ к джинсе? Если «политик сказал» - это и есть событие событий, то такая ли уж разница, на каких условиях он это сказал, по теме ли и не с корыстной ли целью? Джинсовость становится неочевидной для аудитории - вот в чём дело. Те же сугубо предвыборные выступления Петра Симоненко, тиражируемые телеканалами, - так ли уж выделяются они на общем фоне, так ли уж бросаются в глаза? Да нет: в ситуации, когда выступления политиков являются темой и идеей практически всех выпусков новостей, отличить высказывания «по делу» от высказываний «по расчету» даже эксперты не всегда могут.
Это касается не только политиков. Вспомним недавнее резонансное медиасобытие - конфликт между Савиком Шустером и «Обозревателем». Что стало предметом обсуждения? Слово «отслюнил», употребленное корреспондентом «Обозревателя» в отношении Александра Ярославского, выложившего в эфире у Шустера немалую (фантастически немалую) сумму на лечение ребенка.
Не стало предметом обсуждения само событие. С одной стороны, Ярославский проявил благотворительность. С другой стороны, благотворительность перед камерами, благотворительность напоказ - это несколько дурно пахнет. С третьей стороны, вот так взять и публично (!) выложить сумму, о которой аудитория не может и мечтать в самых радужных снах, - что это, если не крайняя невоспитанность на самой грани хамства? Благотворитель, публично сверкающий бриллиантами, не вызывает доверия: очень уж барской, очень уж унижающей выходит такая благотворительность. Вот он, яркий пример: слова в наших СМИ важнее фактов.
Какая богатая была бы тема для дискуссий, не правда ли? Но нет: у нас всё обсуждение свелось к тому, кто что сказал. За скобками осталась суть события. Безусловно, слово «отслюнил» было недопустимо вульгарным и циничным. Но, с другой стороны, возможно, сама ситуация покоробила журналиста «Обозревателя»? Возможно, он и сам до конца не разобрался, что именно его покоробило, но такая вот благотворительность с барского плеча не показалась ему достойной уважения?
Еще один штрих к портрету. Заметили ли вы, кто в большинстве своем представляет журналистскую среду на различных ток-шоу? Главные редакторы! Люди, успешные в качестве медийных администраторов и продюсеров и очень часто неплохие - да, но не более того - в качестве журналистов. В советские времена главные редакторы - это была номенклатура, для центральных газет и телеканалов - номенклатура уровня ЦК. Они не столько представляли журналистское сообщество, сколько были надзирателями в этом сообществе. Опять же: времена изменились, нравы и традиции - нет.
Было бы неправдой сказать, что на советском телевидении вовсе не было авторской журналистики. (Имеется в виду, разумеется, информационно-политическое телевидение: программы типа «Клуба кинопутешествий», «В мире животных», «Музыкального киоска», «Театральных встреч» - это отдельная тема.) Единственной сферой, где допускалась авторская журналистика (та же публицистика), была международная информация. Та же «Международная панорама», где кумирами публики были несколько талантливых (и проверенных-перепроверенных) журналистов.
Но там были свои правила и свои стандарты. И они тоже не канули в лету. Эти стандарты очень наглядно продемонстрировал ведущий (теперь уже бывший) российского Первого канала Петр Толстой в своей вызвавшей широкий резонанс подводке к материалу о принятии в Украине закона о языках (российский Первый канал, 8 июля).
Резонанс вызвали безапелляционность и ложь журналиста. Нас же интересует примененная им методика - как раз в стиле советской авторской журналистики. И интересует потому, что и в украинской журналистике та же методика находит очень широкое применение. Готовя статью, я даже собирался привести примеры - но отказался от этого: случайно выдернутые примеры общего правила случайными и остались бы. Каждый сможет привести десятки подобных примеров, десятки их можно найти в обзорах «Детектор медіа». Подводка Толстого должна была бы занять почетное место в учебниках по постсоветской журналистике - в разделе советского наследия.
Итак, в чём состояла методика Толстого? «Верховная Рада приняла закон о придании русскому языку статуса регионального в половине областей» - это была вопиющая неточность, ибо формально закон был вовсе не об этом. А скорее даже, это была примитивизация, желание втиснуть событие в узкие рамки стереотипа «борьбы русскоязычного интернационализма с украинским национализмом». Вот так же и советская «Международная панорама» опускала детали и подробности, вплоть до искажения сути события, сводя все события в мире к «борьбе социализма с капитализмом».
По Толстому, это событие «всколыхнуло украинских националистов». Здесь - навешивание ярлыков, одна из характерных особенностей советского телевидения и советских СМИ. Заодно аудитория должна была понять: против закона - лишь кучка отщепенцев, тогда как «всё прогрессивное человечество поддерживает и одобряет».
«Годы насильственной украинизации», «извращалась русская история» (вообще-то, в современной России по соображениям политкорректности принято говорить о российской истории), «вранье про геноцид украинцев и про героизм бендеровцев (Паниковского с Балагановым? - Б.Б.)»... Что это, как не использование устоявшихся (установленных властью) идеологических стереотипов? Что это, как не советский опыт, где коммунистические стереотипы точно так же не требовали доказательств?
«Все и так знали, почему Николай Васильевич Гоголь свои книги писал на русском, а застольные песни пел на украинском». Почему именно, Толстой так и не сказал. Вот здесь уже возникло ощущение полного дежавю. Именно советские мэтры «Международной панорамы» позволяли себе подобные «тонкие намеки», демонстрируя таким образом собственную посвященность в некое эксклюзивное знание, недоступное плебсу. Это считалось верхом публицистики.
Особо следует отметить тезис Толстого о том, что в Украине живут «более двадцати миллионов русских». Этот тезис многие относят к Николаю Азарову, к его выступлению на российском телевидении в программе «Познер». Но дело в том, что вовсе не Азаров - его автор. Цифра в 20 миллионов русских в Украине уже много лет гуляет по российским изданиям определенного толка. Вышла классическая «карусель»: российские шовинистические издания публикуют вымысел, украинский премьер-министр черпает из этих изданий представления о стране, которой управляет (!!!), - и вот уже этот вымысел подкреплен авторитетным заявлением украинского премьера.
Тоже, кстати, советское изобретение - ссылаться на просоветские западные издания (чаще всего органы компартий), публикации в которых были организованы не кем иным, как советским руководством. Этот метод использовался еще со времен Сталина.
Но главное даже не в этом. Сам сюжет, к которому Толстой давал подводку, вовсе не был тенденциозным. Да, на экране появилась карта, на которой Черниговская и Сумская области были обозначены как русскоязычные. Да, авторы сюжета умолчали о том, что закон Кивалова - Колесниченко устанавливает порог в 10% населения, которые могут диктовать свои условия всем остальным. Да, не было сказано, что новый закон поддерживает украинский премьер-министр, не владеющий украинским языком, ввиду чего его позиция выглядит эгоистичной, а отстаиваемое им двуязычие - сомнительным. Да, уж слишком живописали авторы сюжета драку в Верховной Раде.
А в остальном... Был дан короткий синхрон депутата Чечетова: «Развели, как котят». Был дан короткий синхрон Владимира Литвина: «Развели Украину». Был дан длинный синхрон Виталия Кличко под Украинским домом, с таким вот комментарием: «Для Кличко русский язык - родной, но он за то, чтобы в Верховной Раде не наносили ударов исподтишка». Материал был составлен так, чтобы зрители симпатизировали скорее позиции Кличко; митингующие под Украинским домом были представлены скорее борцами против произвола власти и уж никак не националистами-головорезами. Но...
Восприятие сюжета уже было задано Толстым в подводке. И всё, что говорил корреспондент, было уже не столь важно: еще до сюжета зрители получили представление о том, кто хороший, а кто плохой. Именно так поступали в той же «Международной панораме», именно благодаря «виртуозным» подводкам сюжет о, скажем, предрождественских распродажах в Западной Германии воспринимался как доказательство беспросветной нужды, в которой живут западные немцы.
А теперь скажите: разве на украинском телевидении такая уж редкость, когда ведущие в подводке задают стереотипное восприятие последующего сюжета? Разве такая уж редкость, когда подводка берет на себя основную смысловую нагрузку, а сюжет превращается в иллюстрацию к ней, подводке? Да нет, скорее, правило...
И напоследок - еще одно воспоминание. Когда-то старший коллега рассказывал, как его, тогда еще начинающего журналиста, отправили в только что построенный, готовый принять первых посетителей музей Ленина (ныне Украинский дом). Он и написал то, что увидел: в здании много недоделок, а по полу невозможно ходить. Главный редактор всё это вычеркнул и прочел наставление: «Даже если в здании вообще нет пола, квалифицированный журналист напишет так, чтобы читателям захотелось пойти в музей тут же, не откладывая». Разве не тот же самый подход наблюдали мы во время Евро-2012? Разве не в этом наставлении - корни неразрешимой ныне проблемы сращивания журналистики и пиара?
Журналистское сообщество борется за соблюдение стандартов. О них же, журналистских стандартах, говорил в эфире Национального радио 24 июля директор Института журналистики при Национальном университете имени Тараса Шевченко Владимир Ризун. А воз, по большому счету, и ныне там.
Демократические стандарты, механически наложенные на журналистику советской школы, не срабатывают и не могут сработать. И вправду: может ли по-настоящему информировать аудиторию ретранслятивная журналистика? Имеет ли значение баланс мнений, если перед материалом ведущие нагружают зрителей стереотипами? Так ли уж важен баланс мнений, если за этими мнениями не видно самого события? Может ли проявиться гражданская позиция журналиста, если ему со студенческой скамьи внушили: ты человек маленький, ты никто, твоя позиция никого не интересует? Если с той же самой студенческой скамьи ему внушили слепое преклонение перед титулами и регалиями?
Впрочем, в ситуации, когда медиабизнеса как самостоятельной сферы деятельности не существует, когда СМИ - не более чем рупор той или иной финансово-политической группы (подчеркну: не идей этой группы, а ее сиюминутных корыстных интересов), иного быть не может. В этой ситуации все разговоры о демократических стандартах - фикция и насмешка, не более. В наших СМИ мы имеем ту же ситуацию, что и в стране в целом - когда бывшие компартийные и комсомольские вожаки вдруг взялись «розбудовувати» демократию и рыночную экономику.