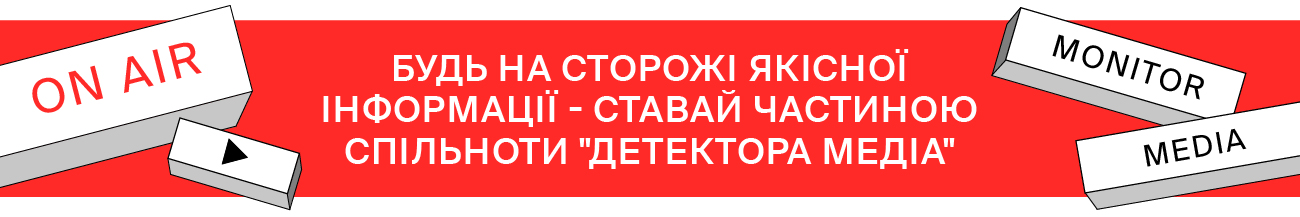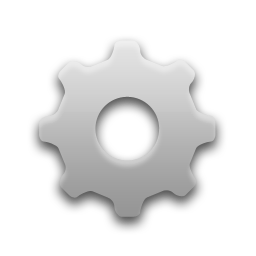Ольга Мусафирова: «Власти “ЛДНР” идут по образцу Китая и Северной Кореи. Они воспитывают детей в ненависти к Украине»
Ольга Мусафирова: «Власти “ЛДНР” идут по образцу Китая и Северной Кореи. Они воспитывают детей в ненависти к Украине»


«Детектор медиа» продолжает публикацию интервью в рамках спецпроекта «Хроника войны глазами журналистов». Герои проекта — наши коллеги, работающие (работавшие) в Крыму, в зоне АТО, на оккупированных территориях Донбасса, освещающие темы ветеранов АТО, переселенцев. Ранее мы публиковали интервью с Леонидом Канфером, Анастасией Магазовой и Вениамином Трубачовым.
Спецкором «Новой газеты» в Украине Ольга Мусафирова начала работать в 2011 году, уйдя из «Комсомольской правды» (она была собкорром московской «Комсомолки»). Хотя работать в «Новой» она собиралась с самого начала ее создания — с 1993 года. «Но тогда совершенно справедливо мне говорили: “Куда ты пойдешь? У нас нет денег”, — рассказывает Ольга. — Когда были достойные внимания события, я писала для них и под псевдонимом, и под своим именем. С точки зрения журналистики я застала в “Новой” самое интересное время — быстрое, как раковая опухоль, развитие режима Януковича и его метастазы. Ведь с конца 2011 года было понятно, что добром это не кончится. Но что случится именно то, что случилось, было трудно даже себе представить».
«В комнате, где проходят планерки, висит шесть портретов в черных рамках»
— Ольга, когда начался Евромайдан, у вас возникали моменты непонимания, точек преткновения с коллегами, которые работают в России?
— Не было, потому что я отработала с «Новой» и в Майдан 2004 года. Я печаталась тогда под псевдонимом Ольга Димова с первого до последнего дня, и ничего, кроме доброй зависти от коллег, не испытывала.
— Ну в 2004-м многие российские коллеги испытывали добрую зависть, а вот в 2013-м уже было не так. А сейчас мы говорим, что на «Дожде» и «Эхе Москвы» работают псевдолиберальные журналисты. Что каждый русский либерал так или иначе заканчивается на украинском вопросе.
— На самом деле так и есть. Однако позиция моей редакции дорогого стоит: Украина и Россия — это две разные страны. Не один народ, не один корень, который сплелся и его никак не разодрать. Если у нас и бывают какие-то расхождения, то не стилистические, а вопросы тактики. «А ты уверена, что вот это действие украинской власти — действие разумное?» — могут спросить меня, если я пишу некий обзорный материал. Но даже если моя точка зрения не совпадает с точкой зрения редакции, текст выходит все равно. Это тоже дорогого стоит.
— Как «Новой» удается держать оборону? Недавно им в редакцию присылали конверты с порошком.
— Им нечего терять. За ними не стоит ни крупный, ни средний, ни теневой, ни правительственный капитал. Кто кормит «Новую»? Нет ничего более легкого. Часть денег дает Фонд Горбачева (не нефтяной, не газовый) и — краудфандинг. Люди, которые по разным причинам, но чаще из-за нехватки воздуха эмигрировали из России в Европу, Канаду, в Штаты, остаются нашими читателями. Эта незначительная часть русской диаспоры, которая уехала потому, что действительно нечем было дышать, узнает новости из России и, что для меня очень важно и лестно, из Украины по «Новой газете». Многие из них, поскольку уезжали лучшие, преуспевают и перечисляют деньги на газетный счет. Я не буду рассказывать, как мы живем от зарплаты до зарплаты. Это американские горки. Деньги есть — ура, ездим в командировки. Денег нет — я начинаю посматривать, кому бы предложить какую публикацию, потому что на что-то же жить надо. Но мысль о том, чтобы оставить «Новую» и перейти куда-то, меня не посещает, потому что такого кайфа, за который иногда еще и платят деньги, я не получу ни в одном другом издании, это совершенно точно.
Для нашей редакции вот эта пресловутая чистота рук находится, я думаю, на первом месте. А иначе было бы невозможно. То, что там все прозрачно, понятно, потому что газета под колпаком: ушли пожарники, пришла налоговая, ушла налоговая, пришла санслужба.

Это дает возможность браться за самые острые темы. Последняя история с преследованием геев в Чечне — я просто обмирала, потому что это очень болезненно для Рамзана Кадырова и очень болезненно для Кремля, который продолжает крышевать Кадырова. Но никто эти темы не обходит, и все понимают, что заткнуть газету можно только вот тем привычным способом, которым затыкали до сих пор. В комнате, где проходят планерки, висит шесть портретов в черных рамках. Это люди, которые, собственно говоря, погибли на боевом посту. Так что можно сказать, что цена за «Новую» сегодняшнего дня заплачена самая высокая. И все, в принципе, понимают, что тут деньги не канают уже. Тут люди кровью заплатили. Устойчивое реноме, что это придурки, которые денег не возьмут, а все равно напишут то, что собираются написать. Я должна сказать, что каждый раз я подзаряжаюсь от них. Я редко езжу к ним в последнее время. Была в мае, и за год до того.
— Не страшно?
— Не страшно, противно. Туда я ехала в плацкартном вагоне, потому что других билетов не было. Вокруг — люди, которые едут в Москву и дальше по разным своим делам — родственным, коммерческим. Послушать эти разговоры — отдельная история. А назад я возвращалась автобусом, потому что не было и в плацкарте билетов. Они отходят с окраинной автостанции — Новоясеневской. Это укрепрайон. Досмотр — хуже, чем в аэропорту. Оттуда идут автобусы во все города оккупированной части Донбасса — через открытый кусок границы с нарушением украинских законов.
Обидно, потому что в свое время я очень любила приезжать в Москву. Красивый имперский город, в сравнении с Киевом подавляющий своим величием, размахом. Но главный редактор сказал мне, что он поймет, если я не буду приезжать. Мы несколько раз говорили с ним о том, готова ли я продолжать сотрудничество, потому что по материалам чувствуется напряжение. Я действительно веду себя, наверное, не совсем как репортер и уж точно не как беспристрастный журналист.
— Вы в прошлом году ехали в московском метро в вышиванке. Как ощущения?
— Я решила себя проверить, потому что это же мы дома все смелые: ленточками обвязались, вышиванки надели и пошли. С абсолютно лояльным выражением лица спускайся в метро, лови на себе взгляды. Не очень просто было принять это решение. Я чувствовала, как мне прожигали спину взглядами. Когда доехала до коллег из «Новой», было совсем другое. Люди, не просто не виноватые в том, что происходит между Россией и Украиной, а всеми силами старающиеся показать, что эта война — агрессивная со стороны России и освободительная со стороны Украины, чувствуют свою вину. А я для них — некое физическое воплощение той Украины, которая страдает от России. И бывало так, что просили прощения. Это лишнее объяснение для меня, почему я работаю с ними. Ощущение, что я попала к очень своим по духу людям, которые в России находятся в квалифицированном меньшинстве и в очень агрессивной среде. Им очень непросто. Мне-то что — я там побыла два-три дня и вернулась. А они находятся в такой капсуле, которая чувствует со всех сторон давление на себя. Как долго они смогут выдержать, я не знаю.
«Редакция — это дом, в котором надо жить»
— Учитывая то, что в последнее время описывал Аркадий Бабченко, которому пришлось уехать из России, они тоже живут в ситуации, когда на улицу страшно выйти?
— Я думаю, это утрированно. Страшно другое — они прекрасно понимают, куда движется Россия, во что она превратилась. Они чувствуют свою ответственность как журналисты за то, что они не смогли удержать ее в тех демократических рамках, в которых она все-таки была после Белого дома. И, разумеется, перед многими стоит, даже если они сами об этом не говорят, вопрос: как быть дальше? Уехать и отдать Россию, условно говоря, Путину и его наследникам? Или все-таки вот из этой здоровой, непораженной клетки, к которой, вне сомнения, относится «Новая газета», может народиться новая Россия? Люди сами себя сознательно ограничили. У них нет возможности выбора — в России им больше негде работать. «Новая» — это, с одной стороны, яркие талантливые журналисты, с другой — это клеймо и волчий билет.
Мои ровесники, которые основывали газету, формировались, условно говоря, в годы горбачевской перестройки. И каким-то образом им удалось сохранить в достаточной неприкосновенности те принципы, с которыми мы пришли в журналистику. Но потом Россия впала в безвременье. И каким образом они смогли из огромной массы пишущих людей притянуть к себе наиболее достойных в профессиональном смысле и несгибаемых по-человечески? Для меня это вопрос. Потому что тот же 30-летний Паша Каныгин — человек, который украсил бы представительство любого западного СМИ, — никуда не собирается уходить из «Новой». Он работает на более чем скромные гонорары. И есть уже следующая генерация.
Это та газета, в которой люди по-прежнему интересны друг другу. Никто раньше одиннадцати вечера не уходит, и часто остаются на ночь. Это момент, который мы застали в Перестройку, когда казалось, что можно свернуть горы, и редакция — это дом, в котором надо жить. В «Новой» остался дух того, что, пока мы вместе, мы можем все. Это удивительная общность. Никогда не думала, что когда-нибудь такое скажу, но сколько времени я потеряла зря.
— В «Комсомолке»?
— Ну конечно. Когда уже увидела, в какую сторону это все идет, что держало? Инерция. К моим материалам, как правило, редакторская рука не прикасалась. За те тексты, которые я писала, мне не было стыдно. А за все остальное я не могу отвечать, думала я. В конечном счете, я всего лишь собкор, а не главный редактор. Но это слабая отговорка, потому что когда на одну чашу весов ты кладешь консолидированный эффект от своей газеты (а он со знаком минус), а на другую — эффект от своих материалов, понятно, что перевешивает.
— Многие, в том числе и российские журналисты говорили мне в последнее время о том, что должна все-таки быть коллективная ответственность.
— Я думаю, это глубоко индивидуально. Есть люди, которые не ощущают коллективной ответственности. Любой журналист имеет право на высказывание своей точки зрения. Не мы ли говорили о том, что это — главнейший принцип демократии, когда даже в пределах одной газеты могут и должны сосуществовать разные точки зрения? Мы же все разные. Будет очень скучно, если все будут в одну дуду дудеть.

Но когда ты понимаешь, что результат таких публикаций не столько журналистский, сколько пропагандистский... Я и тогда понимала, что это не просто так: позиция, что «цветные революции» — это кровь, разрушения и страдания простых людей. Это такая подготовочка, подкладочка: «Не дай бог такое начнется, вы посмотрите, чем это заканчивается». «Комсомолка» занимала такую позицию, что власть дарована свыше, что ничего менять не надо, потому что ничего к лучшему изменить нельзя. И эти рефлексии об СССР, «как же было хорошо, когда мы все были братьями».
— Это все согласовывалось непосредственно с кураторами в Кремле?
— Разумеется. Каждая газета окучивала свою аудиторию. Вот когда ты понимаешь, что помимо собственной воли принимаешь участие в чужой игре и ничего не можешь сделать. Потому что твой материал — не просто кирпичик, он в какой-то мере оправдание существования тех, других, материалов.
«Идет война азовская»
— Когда начался Евромайдан, вы почувствовали, что это какая-то точка невозврата, рубеж, что это что-то изменило в вас? Вот когда вы понимали, что сейчас вы не просто журналист?
— Такое ощущение появилось раньше, в августе 2013 года. Потом мне кто-то из друзей сказал: «Вот зачем было так называть материал? Ты же знаешь, что мысли материальны». А текст назывался «Идет война азовская». Помните эту историю, когда российские пограничники догоняли украинский рыбацкий баркас, таранили его? Я этой историей занималась очень предметно, вытаскивала из Ейска рыбака Александра Федоровича. Браконьера, конечно. Но это не повод топить людей посреди моря и рубить их винтами.
Крупное, очень зажиточное приморское рыбацкое село — Безыменное. Оно сейчас находится на оккупированной территории. И я понимаю, что от него ничего не осталось, потому что это рядом с Широкиным. Меня тогда повели на кладбище, и я видела невероятное множество могил — людей, «которых забрало море», людей, которые аналогичным образом были потоплены. Тех, кто спасался, российские пограничники вытаскивали на тот берег и потом требовали за них выкуп. Семьи продавали моторные лодки, машины, дома, чтобы выкупать их. Это длилось не одно десятилетие. И люди в Безыменном говорили: «Жить так больше невозможно. Мы верили Януковичу, но он предал, ничего для нас не сделал. И русские говорили: “Хохлы братья”. А видели, сколько забитых?». Для меня это было, честно говоря, совершенным открытием. Я не думала, что проблема зашла настолько далеко и она настолько болезненна.
— И главное, что в Киеве об этом никто не знал и не говорил.
— Совершенно верно. Мы привыкли, что отношения между государствами на высшем уровне могут то ухудшаться, то улучшаться, а отношения между «простыми людьми» (не люблю этого отвратительного определения) — как температура по больнице. Ничего подобного. И даже там, в Приазовье, вот в тот момент это зажиточное, богатое село выходило на стихийные митинги.
Их четверо было на баркасе, трое утонули. В тот день, когда я приехала, двоих достали водолазы, и у одного из них полголовы было снесено винтом. То есть тупо топили этот баркас. Это не то что неоправданная жестокость, это… война. «Воруете российскую рыбу». Но в Азовском море нет границы. Их задержали на той территории, которая де-факто была украинской, и потом начали гонять как зайцев по морю.
Село вышло на сход и сказало: «Если вы, местная власть, не обратитесь в Киев и не потребуете поймать и наказать этих российских пограничников, которые убили наших хлопцев, мы перекроем море». Мы же привыкли говорить, что есть регионы, которые склонны к тому, чтобы что-то менять в жизни, а есть Донбасс, который готов терпеть хоть сто лет. Но это Донбасс, это географически Донецкая область.
«Мы выдираемся с мясом, теряя куски территории»
— На Евромайдане это ощущение усилилось?
— В один из дней приехал Аркадий Бабченко. И в районе стадиона была последняя баррикада, за которой стоял «Беркут». Тут были костры, тут были священники, которые по ночам правили молебны о том, чтобы не допустить крови. А Бабченко тогда сказал, что надо пойти на ту сторону и поговорить с «беркутами». Было несколько этапов прохождения этой баррикады. И на последнем уже рубеже стояли серьезные майдановцы, они пропустили только Бабченко и Каныгина. «А ви, жіночко, стійте тут і чекайте», — сказали мне. Я ужасно обиделась. Злилась, сидела и разговаривала с этими хлопцами. А потом мы сверили ощущения от той и от другой стороны. А с той стороны в первом ряду стояли ВВшники, 18-19-летние хлопцы в памперсах. И они говорили: «Что же по нам стреляют, и светошумовые гранаты, и коктейли Молотова бросают?». А майдановцы, с которыми я сидела, говорили мне: «Разве вы не видите, что у них уже есть боевые патроны и они по нам будут стрелять?» То есть люди, разделенные двумя рядами мешков, уже жили в мифах друг о друге. ВВшники не собирались стрелять, они боялись тех, кто стоял здесь. А здесь были уверены, что та сторона уже держит их на прицеле.
— В начале февраля 2014-го у вас или ваших коллег было ощущение, что все это продолжится Крымом и Донбассом?
— Очевидно потому, что я всю жизнь работаю в российском СМИ, я была уверена, что Россия просто так не отступится. Потеря Украины для России — это, собственно говоря, конец российской истории. Потому любые средства должны были быть задействованы, включая самые ужасные — такие как война.
— Но в 2004-м Россия отступилась?
— В 2004-м не было таких пиковых точек, как, скажем, избиение студенческого майдана. Люди стояли за честные результаты выборов. Третий тур, пересчитали, победил Ющенко, Янукович смирился. А здесь-то на карту было большее поставлено. Избиением студентов сделали то, что представить было невозможно. В стране, в которой в 1991-м не пролилось ни капли крови, в отличие от Москвы, все-таки кровь пролилась. Вот это стало завоеванием и независимости, и отстаиванием всего того, о чем говорили в 1991 году. У нас просто произошла отложенная революция. В Москве она произошла тогда, но быстро победила реакция. А Украина стояла на одной ноге, балансировала. А это такое состояние, которое долго продолжаться не могло. И когда неподписанием Ассоциации с ЕС Янукович качнул ее в сторону России, родилось противодействие. Гениально было бы, если бы обошлось без крови, но, как я сейчас понимаю, мы имеем дело не с политическим, а с историческим процессом. Без крови такие вещи не обходятся. Ужасно это понимать. Еще ужаснее это произносить. Но Россия не могла выпустить Украину просто так. Мы выдираемся с мясом, теряя куски территории.
У одного из коллег я читала предположение, от которого мороз по коже. Господи, неужели это такая историческая миссия Украины — бросить себя на плаху для того, чтобы этот последний имперский монстр после такого удара и вырванного с мясом куска тоже не оправился?
«Система сбоев не дает»
— Примерно год назад начали вслуname="_GoBack">х говорить о том, что дело возвращения Крыма — дело не одного десятилетия. Теперь такое же ощущение относительно Донбасса.
— Речь же не о том, что территории не вернутся. Территории вернуть можно — наступлением, кровью, большими потерями, но выйти к нашим границам. И это цивилизованный мир поймет: страна терпела-терпела, потом плюнула, пошла и отвоевала свою территорию. Это же не XVII век, когда нужны территории для выпаса скота. Но каждый день, прожитый людьми в отрыве от Украины под пропагандистским влиянием «русского мира», катастрофически отделяет нас от тех, кто остался на Донбассе. И проблема не столько во взрослом населении, которое кричало: «Путин, приди». Взрослые — это такие люди, которые моментально перестроятся.
— Особенно жутко было смотреть на детей, участвовавших в параде 9 мая в аннексированном Крыму.
— То есть они идут по кальке СССР: военно-спортивные игры по типу «Зарницы», пионеры-герои, военная форма, георгиевские ленточки. Опять-таки надо знать Донбасс, ментальность донбасскую: эта пресловутая, легендизированная жесткость «Донбасс никто не ставил на колени» — это решаемый вопрос. Очень тяжело с детьми, потому что власти «ЛДНР» идут по образцу Китая и Северной Кореи. И они воспитывают детей в ненависти к Украине. В тех рамках, в которых они находятся, детям прививается мысль, что вот это и есть та нормальная жизнь, которая должна быть у людей. Все, что за пределами Донбасса, — то хунта, враги.
— Сейчас популярны сравнения со Второй мировой войной, хотя мне они в большинстве случаев кажутся некорректными. Ну а что, если провести такую параллель: наши предки прожили в оккупации больше двух лет, пока украинские земли не были освобождены. Многие выехали в эвакуацию, но оставались же люди, которые жили в оккупации?
— Знак равенства ставить нельзя. Тогда большинство людей, даже те, кто в силу разных причин не уехал за Урал, считали, и это было их внутреннее ощущение, что они находятся в оккупации. Какой процент людей, живущих на Донбассе и в Крыму, в семейном кругу говорят: «Мы в оккупации»? Вот я бы хотела это знать. Как я думаю, это не очень большой процент, и он становится все меньше. Другое дело, что они ощущают тотальную брошенность. Уже понятно, что этот «проект Новороссия» накрылся медным тазом.
Яркий пример — история четы Мармазовых. Руслан Мармазов, в прошлом главный редактор донецкого выпуска «Комсомольской правды», а затем глава пресс-службы ФК «Шахтер», и его жена, в прошлом проректор Донецкого университета, которую называют «мамой донецкого федерализма». Это такие убежденные, патентованные сторонники «русского мира», которые на протяжении достаточно долгого времени готовили питательную почву для того, что произошло. Что-то там произошло такое, что заставило эту чету уехать из Донецка, и туда им въезда нет. В течение года они живут в Туле и подают документы для оформления вида на жительство в РФ. Но, видимо, пропустили какие-то сроки или вот эти пресловутые 90 дней. Видимо, считали, что таким выдающимся борцам за «русский мир» российские законы не писаны. В Туле судебные исполнители с полицией пришли к ним домой, взяли отпечатки пальцев, прошел быстрый и суровый, «справедливый» российский суд. И гражданку Украины Мармазову депортируют в Украину.

За них вступились даже депутаты Госдумы: «Что же вы делаете? Вы просто в лапы хунты отдаете таких замечательных людей!» А многие россияне пишут, с моей точки зрения, вещи совершенно логичные: «Нет, подождите, они боролись за ДНР? Так там пускай живут. Чего это им российское гражданство получать, нахлебникам?» И это так приятно слышать, потому что система сбоев не дает. Вы приехали в Россию? Вы считаете, что вы русскокультурные, русскоговорящие, сторонники «русского мира»? Вы — нарушители российских законов, граждане Украины. И вот ваша цена. То, что эта история случилась, очень показательно. Как в капле воды, в ней отражается то, как российская власть по-настоящему относится к этим новообразованиям на Донбассе, которые для нее доброго слова не стоят, и как она спекулирует термином «Новороссия». Одни из инициаторов референдума теперь на своей шкуре чувствуют, как им рады в России. За то, что они привели на Донбасс, это даже не кара. Это такой мелкий щелчок по носу.
— Вы говорите, что в России мало кто не поражен этими метастазами. Если бы эта пропаганда — и местных СМИ, и российская — щелк, и за один день прекратилась бы?
— Я думаю, что вначале был бы какой-то период отупения: а как дальше жить? Это как больному человеку в вену капают раствор обезболивающий, и он лежит, и вроде ничего не болит. А потом краник на капельнице перекрывают, и ему становится дискомфортно. Большинство потребителей российских СМИ привыкают к той картине мира, в которой они существуют: «Россия в кольце врагов». Россия — оплот добра, мира и справедливости, а окружают ее подлые предатели украинцы, злокозненные эстонцы, мерзкие грузины. О европейцах-геях говорить нечего, на американцах пробы ставить негде. Если моментально все эти тезисы перестать озвучивать, я думаю, люди растеряются. Им не будет хватать ежедневной жвачки, которую они получают. Люди, чье серое вещество еще способно воспринимать не пережеванную через телевизор информацию, ищут ее. Остальные будут страдать ужасно, потому что их лишат ежедневной дозы, которую им капают в кровь.
Болезнь достаточно запущена. Если бы этот процесс отключения от телевизора наступил сейчас на Донбассе, шансы на спасение были бы высоки, потому что всего три года. С Россией совершенно не уверена.
«Дети ни в чем не виноваты. Они — страдательный залог»
— Ольга, вы же были с той стороны?
— Дважды, в конце 2014-го и начале 2015 года. Хотя мне главный редактор строго-настрого запретил туда ездить. Во-первых, потому что я — гражданка Украины. Это дополнительный риск: никто не будет смотреть на служебное удостоверение, будут смотреть на паспорт. Второй момент — тебя хорошо знают в Киеве? Тебя хорошо знают и в Донецке. И третье: я категорически не была готова получать какие-то аккредитации в «ДНР». Тут уже на уровне брезгливости.
Тогда я дважды придумывала легенды для редакции — говорила им, что ездила туда, уже вернувшись с материалом. В Новоазовске есть школа-интернат, где большинство детей — из села Приморского, что на линии огня. Ее расформировали «ДНРовцы» — раздали детей по тем семьям, откуда они когда-то были отправлены в интернат. Я получила тогда абсолютно брехливый ответ из Министерства образования и науки Украины. Меня заверили, что все школы-интернаты и детские дома с территории проведения АТО и с оккупированной территории вывезены. А вот же я вижу, что не вывезена.
Я нашла совершенно восхитительную женщину Людмилу, которая живет в Новоазовске. Тогда она со своим мужем помогла мне выстроить целую логистику переезда блокпостов от Мариуполя до Новоазовска. А Новоазовск был первым городом в этой так называемой республике, где ввели внутренние пропуска. То есть это гетто. Житель Новоазовска не может выехать в Мариуполь, не придя в администрацию и не выписав там себе разовый пропуск с печатью. Попробуй не вернись, если ты пишешь, что едешь на сутки, и не проставь на обратном пути такую же печать. Я проходила по графе «родственница», и это было очень стремно, потому что мы по телефону два раза друг друга слышали. Бог дал, все получилось.
— То есть вы не говорили, что вы журналист?
— Боже избавь. У меня было с собой удостоверение, под вещами закопано. Я везла много детской одежды, обуви, конфет, новогодних подарков, и это была такая «гуманитарная помощь» в больших клетчатых сумках. Через блокпосты меня провозил директор заповедника «Меотида». Я о нем когда-то писала, и тут вспомнила. Заповедник остался на той территории, соответственно, он перерегистрировался в «ДНР», но это глубоко порядочный человек. Он спросил меня: «Писать будете?» Понял ответ, но взялся и перевез.
Мы катались по всем обстреливаемым селам. Я видела, как выглядит военная комендатура в Новоазовске, а там действительно русские. Видела блокпосты, на которых стояли люди бурятской национальности, они у нас проверяли документы и, по-моему, очень слабо понимали, о чем мы с ними говорим. И видела этих детей, от вида которых сердце сжималось. Тогда всего полгода шла война. Они были сине-зеленого цвета, недокормленные. В свое время их по каким-то причинам забрали в интернат: например, мама-алкоголичка, папы нет, пятеро детей, земляной пол. А сейчас их туда вернули. И слава богу, что учительницы, у которых в кабинетах висят портреты Захарченко и Путина, потому что так надо, — добрые, сердечные женщины. И они этих детей кормят в школе. Это единственный шанс для этих детей получить горячую пищу. И вот эта Людмила работает на птицефабрике и старается привезти туда какую-то курятину, яиц. Дети эти ни в чем не виноваты. Они не голосовали за «ДНР». Они вообще — страдательный залог.
— Решить вопрос с вывозом интерната невозможно?
— Нет, а как? Это территория «ДНР», они заложники. Там были жуткие истории, когда одного мальчика, которого отправили в Донецк в больницу, и он попросил 20 гривен, а на них купил не конфеты, а сигареты, отправили в психиатрическое отделение. 11-тилетнего ребенка. Люда потом его оттуда доставала невероятными усилиями, с привлечением омбудсмена.

И утверждать, что здесь нет никакой нашей вины? Ну да, понятно, у нас большие потери. Страна решает вопросы на макроуровне. А на микроуровне вот эти 15 никому не нужных полусирот… Прошел момент, когда мы правдами и неправдами могли их вытащить оттуда. Теперь их головы фаршируют тем, чем фаршируют. Мы стараемся два-три раза в год передать им обувь, одежду, подарки, витамины, на украинском языке открыточки: «Твої друзі з Києва». Учительницы им раздают это все, Люда делает фотоотчет, как они примеряют одежду. Я выставляю этот текст в Фейсбуке, и обязательно находятся «добрые», «сострадательные» люди, которые говорят: «А зачем вы их одеваете и кормите? Они вырастут и будут нашими врагами». Вот с этим никогда не смирюсь. Малые дети. Они не просили, чтобы их там бросали.
«Это люди из двух разных миров»
— Потом вы ездили в Донецк?
— В Донецке у меня было странное ощущение, потому что после 1 марта 2014 года я дала себе слово, что никогда туда не поеду. Это был день, когда началась «русская весна», была попытка захвата областной администрации, срывали украинские флаги и вешали триколоры, стояли автобусы с ростовскими и ейскими номерами, и вся эта гопота расползалась по городу…
Недалеко от областной администрации — памятник Шевченко с таким круглым постаментом, на котором были наклеены черно-белые фотографии дончан, погибших на Майдане. И было ощущение, что все это начнут срывать сейчас, потому что толпа качнулась и из нее показался мой любимый подвид донецких женщин в таких мохеровых беретах на одном ухе. Я спустилась в подземный переход, а там стояла группа пацанов ПТУшного типа. Это были фанаты, и у одного из них был флаг Украины. Они вышли как раз в тот момент, когда бабы в мохеровых беретах полезли срывать фотографии. Мальчишки стали, держась за руки, спинами к своим, а лицом к этим. Я поняла, что нужны лишние руки, и стала вместе с ними. Это было незабываемое ощущение. То, что материли, — это ладно, но до этого в лицо мне никто никогда не плевал.
Но я все-таки съездила после этого посмотреть бытописательские картинки: ситуация в магазине, на улице. Было ощущение, что я вернулась в собственную юность. Абсолютный Советский Союз. Донецк и так во время оно был очень СССРовским городом с лозунгом на самом высоком здании «Донбасс работает на коммунизм», с досками почета на каждом удобном месте… Ахметовский лоск с него слетел очень быстро, а вот это старое советское нутро очень бросалось в глаза — очереди, которые появились в молочный и хлебные отделы… И я узнавала те лица, которые, как я думала, перестали существовать. Это было покорное, унылое принятие собственной судьбы. Это так бросалось в глаза, даже типажи на улице. Я думала: а куда делись люди с другими выражениями лиц, какие-то сегодняшние, современные? Было ощущение кинохроники середины 80-х годов.
— Ведь в Донецке была консерватория, театры, Донецкий технический университет. Куда делись все эти люди, они же ездили за рубеж, были современными?
— А я не знаю. Может быть, они сидели по домам, может быть, в бомбоубежищах. Те, кого я видела на улице, были людьми, с готовностью принявшие нынешнюю свою судьбу. «За нас решали тогда — за нас решают сегодня». Это глубоко советские люди. В этом еще одна очень большая проблема. Дотационный шахтный, внешне покрытый лоском город стал таким, каким он был в середине 80-х. И я не хочу говорить, что между нами большая цивилизационная пропасть. Но как ее преодолеть, если Донецк или силой или путем договоренностей вновь станет Украиной? Многие люди, которые жили там и уехали, не готовы туда возвращаться, потому что они вдруг увидели, кем были их соседи по лестничной площадке, по производству. Они ужаснулись этому. Это люди из двух разных миров.
— Потом вы ездили на эту сторону?
— Да, но на передовой я фактически не была, во-первых, потому, что понимаю, что это дело телевизионщиков. Во-вторых, по моему глубокому убеждению, там должны быть те военные журналисты, которые разбираются в том, что происходит. Я считаю, что больше пользы от тех материалов, которые я делаю из серой зоны, из прифронтовой полосы, из городов, которые были в оккупации, как Славянск и Краматорск, а теперь стали снова украинскими. Вот это очень интересно проследить — какая происходит внутренняя трансформация, и происходит ли она.
— Какая из историй из этих прифронтовых городов отпечаталась у вас больше всего?
— Это был август 2014-го. Тогда пошли первые белые гумконвои из РФ, и Украина хотела выбить этот козырь у Путина, показать, что нет, мы не бросаем наших людей на той стороне. Сформировали колонну из 19 грузовиков крупных автотранспортных предприятий. Загрузили их мукой, сахаром, памперсами и отправили. По ходу оказалось, что на ту сторону перебросить это гуманитарное добро нет никакой возможности. Решили перенаправить грузы на Северодонецк и Лисичанск, которые вот только что были освобождены. Водители по 36 часов за рулем с двумя остановками, 50 градусов в кабине. Отдельная история, как мы плутали, как куда-то делось милицейское сопровождение, как эта колонна с сине-желтыми знаменами наворачивала по Донецкой и Луганской областям, не имея ни малейшего понятия, на чьей территории она находится.
— Но вас же отправляли официальные лица?
— Да, Максим Бурбак, который тогда был министром сельского хозяйства. Он был в вышиванке, когда отправлял нас. Все очень круто было. По ходу машины ломались, потом мы стояли на околице какого-то города, потому что водители должны были поспать два-три часа, потом искали воду, чтобы умыться. И в результате приехали в Лисичанск. Люди выходили из подвалов. Слава богу, у них обстрелы были недолго. И вот состояние людей, которые жили бедно, работали тяжко в шахтах, на металлургическом предприятии. Надо было видеть, как они разбирали впрок муку, сахар. С одной стороны, была жалость неимоверная. С другой — я с ужасом смотрела, как люди, которые сидели в одном бомбоубежище, выдирают друг у друга мешок муки и вцепляются друг другу в волосы. Прибегает муж одной из женщин, эта сторона побеждает, а та садится на землю, закрывает голову руками и плачет. В такие минуты ты понимаешь, что делает с людьми война. Она не меняет человека в худшую или в лучшую сторону, она вытягивает из него его настоящего.
Фото предоставлены автором