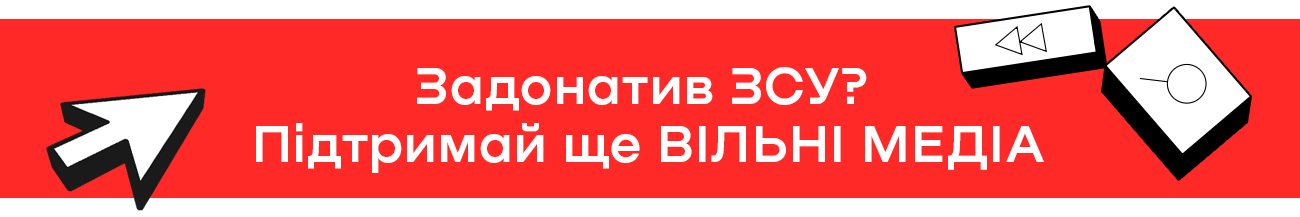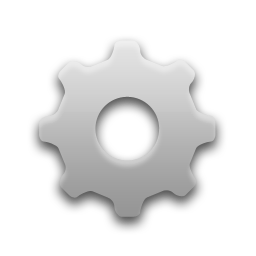Вениамин Трубачев: «Это очень странно, когда журналист приезжает и говорит: “Давайте стрельнем на камеру”»
Вениамин Трубачев: «Это очень странно, когда журналист приезжает и говорит: “Давайте стрельнем на камеру”»


Интервью с Анастасией Магазовой читайте тут.
Вениамин Трубачев работал спецкором «Подробностей» сначала в Москве, потом в Вашингтоне. Когда наступил февраль 2014-го, Вениамин Трубачев решил, что пора возвращаться в Украину. «Я понял: если такое происходит в моей стране, нужно делать материалы здесь», — говорит Трубачев. Вернувшись, он сразу поехал в Крым, в котором уже появились «зеленые человечки». Сейчас Вениамин работает военным корреспондентом телеканала ICTV в программе «Факти тижня — 100 хвилин з Оксаною Соколовою». С порога он говорит мне: «Ну только если в рамках хроники войны. А вообще, я не сторонник того, чтобы журналисты давали интервью. Они должны делать свою работу, и это все».
«Выйти на улицу просто так было чревато»
— Каким был ваш первый сюжет в Украине после возвращения?
— По-настоящему для меня история войны началась в Симферополе, когда убили первого украинского военного. Тогда «казачки» и российские военные захватывали Картографический центр в воинской части. Мы туда приехали снимать, но работали нелегально, и началась хаотичная стрельба, камеру нашу пытались разбить. Я вернулся в гостиницу, чтобы перегнать материал, и тогда стало известно, что во время этого захвата убили украинского офицера-постового. Я понял, что все очень серьезно и что просто так все не закончится. Это случилось после того, как две другие наши съемочные группы, в составе которых был и Андрей Цаплиенко, в Севастополе были избиты, у них забрали технику, угрожали убить. Оператору сломали ребра, выбили зубы. Они вернулись в Киев, а я еще продолжал там работать.
— Что значит «нелегально»?
— У нас не было аккредитации. Мы никак не сотрудничали с военными, которые уже там были. И уже было негласное правило: если ты российский журналист, тебе все дороги открыты, а если ты украинский журналист, тебя могут вот так просто избить, забрать технику.
— Как вы въезжали на полуостров?
— Как обычные граждане Украины. У нас была маленькая камера, и мы не представлялись журналистами. Потому что это было уже небезопасно — заходили военные с автоматами в поезд. Если бы мы сказали, что мы журналисты, нас, во-первых, не пустили бы, а во-вторых, могли избить, как Цаплиенко. Тогда мы жили в гостинице «Москва» в Симферополе — там, где и другие журналисты. И в этот вечер, после того как мы отправили по интернету материал, ко мне в номер пришли два человека… таких… характерной внешности. Они сказали: «Если хочешь жить, если не хочешь, чтобы тебя так же, как Цаплиенко, избили, тебе нужно уехать».
— Они представились?
— Нет. Дали мне время до утра. Они ушли, я спустился вниз на ресепшен и спросил: «А что это за люди, которые свободно приходят в номера к вашим постояльцам?» На что мне ответили: «Вам нужно уехать, потому что с завтрашнего дня в вашем номере начнется ремонт. Других номеров нет». Ничего другого не оставалось, как съезжать, хотя у нас было заплачено еще за несколько дней. Еще пару дней мы снимали квартиры с другими коллегами. На границе уже проводили проверку местные таможенники. Меня вывели из поезда, что-то вносили в базы данных. Это было до референдума, и с тех пор у меня не было ни попыток, ни желания попасть ни в Крым, ни в Россию, потому что снять объективный, честный материал было сложно уже тогда.
— Когда вы впервые поехали в АТО?
— Началось все с поездок к блокпостам вокруг захваченного Славянска.
— Насколько там было безопасно для журналистов тогда?
— Если сравнивать с теми бомбежками, которые были после того, то относительно безопасно. Угрозы жизни я тогда не чувствовал. Я никогда не брал интервью у сепаратистов. Априори было понятно, что украинские СМИ для них — враги.
— То есть аккредитацию в «ДНР» вы не получали, в списке «Миротворца» вас нет?
— В списке «Миротворца» нет, но я есть в другом списке — на одном из сепаратистских сайтов как «пособник хунты». Мы работали в Луганске, тоже подпольно. Уже были захвачены все административные и воинские части, осталась незахваченной только одна пограничная застава на окраине Луганска. Это известная история, три дня пограничники отстреливались. В городе все знали, что рано или поздно их будут захватывать. Мы с оператором арендовали жилье в доме напротив этой заставы, сидели и ждали, когда это случится, чтобы сделать репортаж. В один из дней я проснулся в 5 утра от того, что началась стрельба. В небе появилась украинская авиация. Мы снимали целый день, и к концу этого дня в Луганске не осталось ни одного административного здания или какого-то военизированного подразделения, которое не было бы захвачено. После этого я переехал в Донецк.
— Как вы выезжали из захваченного Луганска?
— Поездом. Вокруг города уже были блокпосты, но железнодорожное сообщение еще не контролировалось боевиками. В Донецке мы тоже работали нелегально — общались с людьми.
— Как у вас получалось делать стендапы?
— Включались из съемной квартиры, с балкона. Выйти на улицу просто так было чревато. В Донецке выход на улицу закончился тем, что проходил вооруженный «дээнэровский» патруль (там уже был комендантский час), нас увидели и побежали за нами. Мы успели вернуться в квартиру. Они выбивали дверь, поджигали ее. Но тогда еще в Донецке были подконтрольные Украине милиционеры (несколько райотделов еще не были захвачены), и они вывезли нас на вокзал. Не попасть в плен или «на подвал» помогли также местные коллеги. Но в целях безопасности они просили не называть их имена. Мы были последней съемочной группой украинских СМИ.
— С тех пор украинские журналисты фактически не могут работать с той стороны.
— Я не пробовал, потому что там есть аккредитация гражданская и военная. Некоторые журналисты могут получить гражданскую аккредитацию. Но что ты с ней можешь снять? Ты же не можешь снять российских военных или зону боевых действий. Какой тогда смысл туда ехать?
— У вас нет ощущения, что вы показываете только одну сторону? Все-таки журналист в ходе вооруженного конфликта должен показывать все его стороны. И мы не видим картинку с той стороны. Я понимаю, что это опасно.
— Опасность — это такое. На любой войне журналист может работать или с одной, или с другой стороны. В идеале он может поработать с одной стороны, потом переехать и поработать с другой стороны. Но мы сейчас поставлены в такие условия, что даже при большом желании я, например, с другой стороны работать не могу. Поэтому я работаю со стороны украинской официальной армии. Мнения с той стороны я не могу получить в силу объективных причин. Это ни хорошо, ни плохо, так есть. Мне бы было интересно поработать с той стороны, если бы я имел гарантии безопасности и доступ к тому, что я хочу снять. Но такой возможности нет.
— Если говорить о гарантиях безопасности вообще, украинские редакции не очень озабочены безопасностью своих военных корреспондентов, в отличие от редакций западных СМИ?
— Ну, у меня все добровольно. Не так давно, в конце прошлого года, я сломал ребра. Мы работали недалеко от Широкино, жили несколько дней с военными, прямо в окопе, на передовой. Нашей основной задачей было отобразить все, что происходит в данный момент: стреляют — не стреляют, перемирие — не перемирие. В одну из ночей начался жесточайший обстрел, таких я не помню ни в 2014-м, ни в 2015 году, и нам удалось снять это на видео. Мы были на одной позиции, а стреляли по соседней. Наверняка это были российские артиллерийские подразделения, потому что работали, по словам наших военных, очень профессионально. Они начали обстреливать из ствольной артиллерии, из крупных минометов и подсвечивали это зажигательными ракетами. Картинка, конечно, была впечатляющая. Мы сидели в окопе, снимали, оно зажигается как днем, и видно было, как падают снаряды. Военный рядом с нами находился, потому что мы были в секундах от того, чтобы спрятаться в блиндаж — обычно стреляют по всему флангу. И вот когда начали уже по нам, нужно было быстро прятаться, я побежал, споткнулся, упал не очень удачно на бревно грудью, сломал два ребра. Моя редакция оплатила диагностику и лечение.
«Мы живем в XXI веке, можно зайти в Google Maps»
— Как сейчас работает пресс-штаб АТО?
— Пресс-офицеры — это посредники между журналистами и военными. Они могут помогать, а могут и препятствовать, в зависимости от разных поставленных перед ними руководством задач. Но это не самое важное. С помощью пресс-офицера мы можем попасть к военным на передовую. Пресс-офицер может дать контакты, сам привезти, позвонить военным. Это зависит от журналиста — сможет он наладить контакт или нет. Дальше включается элемент доверия: ты приехал к военным, снял материал и исказил что-то или сказал неправду, и в следующий раз с тобой никто общаться не будет. С пресс-штабом всегда можно найти общий язык и компромисс. Были разные случаи, но я стараюсь на такое не обращать внимания.
— Пресс-штаб часто заявлял, что украинские журналисты непрофессиональны, снимают и показывают позиции собственной армии. Действительно, у наших журналистов до того не было опыта работы в условиях военных действий. Как вы понимаете, что следует снимать, а что — нет?
— Ну если приезжаешь на передовую и военные говорят: «Вот это не снимай», — это их право. Если запрещают снимать себя, может, их родственники не знают, что они воюют. А вот позиции в целом — это полная чепуха. Мы живем в XXI веке, когда можно зайти в Google Maps, отрыть обновления спутниковых карт, клацнуть на город, увеличить и увидеть все координаты, все окопы, блиндажи, увидеть, где стоит техника, и не нужно отсматривать никакие сюжеты журналистов. Линия фронта за последний год практически не меняется. Кроме того, и у украинской армии, и у российских войск и боевиков есть квадрокоптеры, которые регулярно летают туда-сюда. Все, кто был на передовой, знают, что этот гул постоянно стоит.
Сейчас идет война с ИГИЛ. Иракская армия, курдское ополчение, американский спецназ воюют в городе Мосул. Эту войну показывают в прямом эфире: журналисты вместе с военными идут на спецзадания, там нет никаких табу.
— Это следствие совковости наших пресс-офицеров?
— У нас не принято показывать погибших, раненых. С другой стороны, нужно понимать, что война — это смерть, боль, страдания. И это показывать надо. Безусловно, в кадре не нужно показывать, как умирает человек. Но меня больше всего раздражает, когда смотришь сводки и там указано: «Раненых трое, погибло двое». Почему об этих людях никто не знает? Почему не говорится о том, как звали этого человека, при каких обстоятельствах он погиб? У нас война превратилась в статистику. За каждой такой цифрой, — а эти цифры называют каждый день, — стоит человеческая судьба, жизнь целой семьи. Если об этом не рассказывать и это не показывать, то все превращается в сухую статистику, которая никому не интересна.
Третий год идет война, у меня погибло очень много знакомых, у которых я брал интервью, с которыми общался, жил в окопах. Их убивали. Как об этом не рассказывать? Когда случился Иловайский котел, я работал с добровольческим батальоном «Донбасс». Я шел с ними и мы снимали, как они освобождали города, делали зачистки. Но в тот день я не поехал на позиции, потому что мне нужно было делать сюжет. И в тот день они попали в котел. Все военные, с которыми я в те дни ездил в микроавтобусе, погибли. Среди них был муж Михайлины Скорик, позывной Шульц. Его убил снайпер. Это сложно осознавать: ты с человеком сидел, ел кашу, он тебе рассказывал анекдоты. А потом его убивают, и на следующий день ты едешь забирать документы, его личные вещи передаешь в Киев… Люди должны понимать, что это не просто картинка.
— Сейчас осталось не так много журналистов, которые освещают военные действия с первых дней. Ваша оценка: как развиваются события в зоне АТО? Есть ли возможность завершить боевые действия?
— Война идет спиралями. В 2014-м и 2015 годах, когда плотно работала реактивная артиллерия, было сложнее. Сейчас — то затишье, то обострение. Артиллерия и минометы тоже периодически используются. Но ни украинская армия, ни боевики при поддержке российской армии не идут в наступление. Линия разграничения есть, она существует. Мне кажется, что закончить эту войну должны в первую очередь политики. А такая вялотекущая ситуация, очевидно, выгодна всем сторонам.
— А что говорят об этом сами бойцы на передовой? У них остается мотивация?
— К войне привыкаешь уже на второй день. Там все просто на самом деле: ты в окопе, здесь — твои друзья, там — твой враг. По тебе стреляют — ты стреляешь. Главная задача — убить врага и выжить. Там о высоких материях не думают. Конечно, психологически сложно, если ты целый год сидишь в окопе и ждешь, когда в тебя прилетит снаряд, когда ты не отступаешь и не наступаешь. Но они солдаты, которые исполняют приказы. А приказы должен давать Верховный Главнокомандующий.
— Как сейчас с обеспечением украинской армии?
— Первое время вообще ничего не было. Сначала практически все журналисты, я в том числе, исполняли также и волонтерские обязанности: едешь туда — и собираешь и покупаешь за свои деньги еду, медикаменты, воду, свечи, все элементарное. Сейчас обеспечение на нормальном уровне, с едой вообще никаких вопросов нет, с экипировкой тоже все более-менее. Единственная проблема — с современным вооружением, но его нужно или покупать, или производить самим. Не хватает тепловизоров, потому что война в основном идет ночью. Сами военные сбрасываются на тепловизоры, волонтеры привозят.
— Много говорили о внутренних проблемах в армии: «аватары», мародерство…
— Честно, нельзя сказать, что прям уж никто не пьет. Все зависит от командира. Если хороший командир, то у него и хорошее подразделение. Если командир за этим не следит, начинаются разброд и шатания. Вот в добровольческих батальонах как раз строжайшая дисциплина.
— И больше мотивации?
— Там единственная мотивация — воевать. Я много работал с «Правым сектором», у них вообще никто не пьет, у них запрещено пить. Даже наказания введены за пьянство, и самое суровое наказание — это отчисление из батальона. Так же в «Донбассе», в «Азове» — такой проблемы вообще не существовало. В рядах ВСУ было, но это частные случаи, а не системная проблема. Если говорить о мародерстве — стоит взять любую армию, и такие элементы есть, но это один процент. И я не сторонник того, чтобы об этом умалчивать. Наоборот, нужно об этом говорить. Одна из главных задач журналиста — рассказать о проблеме. И после этого задача Минобороны — не ругать журналиста за то, что он рассказал об этом, а проблему исправить. Хотя, конечно, журналисты иногда создают «проблемы» на ровном месте.
«Ты слышишь залп, она летит 13 секунд»
— Ну вот вы расскажете в своем репортаже, что в этом подразделении были такие-то случаи, например, пьянства. А потом позвоните пресс-офицеру, и он скажет: «Не приезжай больше к нам на передовую»?
— Здесь дело даже не в пресс-офицере. Была история, не буду бригаду называть, — солдат под воздействием то ли алкоголя, то ли наркотических веществ убил двоих сослуживцев и с оружием сбежал. Мы делали об этом репортаж, и командование этой части эту информацию никак не утаивало, работали органы прокуратуры. За что обижаться на нас? Была и другая история. Шла гражданская машина, подвозили военного, заговорились и фактически заехали на блокпост сепаратистов. Машина резко развернулась, они старались убежать. Боевики открыли огонь и ранили водителя этой гражданской машины. Мы записывали с ним интервью в больнице, он чудом выжил. У него три пулевых ранения в грудной полости. Чья вина? Пусть разбираются следователи.
Есть нюансы, какие-то личностные моменты: кто-то кому-то нравится, кто-то кому-то — нет. Я, честно говоря, не особо в эти скандалы вникал. У меня другая задача — я делаю такой репортаж, какой могу сделать. Но нужно понимать, что часто военные не то что не хотят куда-то пустить журналиста. Просто они перестраховываются, потому что журналист — гражданское лицо. Неоднократно мы садились с командиром, и я писал заявление примерно такого содержания: «Я, Трубачев Вениамин Валерьевич, в случае моего ранения или гибели заявляю о том, что по собственному желанию поехал в зону боевых действий. Обещаю не винить военных…». Я ставил подпись и отдавал листочек командиру, мы ехали на позиции. Когда возвращались, листочек этот рвали.
Если ты приехал на позицию и там тихо, ну не нужно придумывать, что здесь идет серьезная война. Это очень странно, когда журналист приезжает и говорит: «Давайте стрельнем на камеру».
— Это украинские журналисты так делают?
— Не буду никого называть. Моделирую ситуацию. Журналист — это бытописатель. Приехал — увидел, что происходит, об этом и рассказываешь. Сейчас в чем самая главная сложность? В том, чтобы словить этот момент. Чтобы снять хороший репортаж, нужно жить с военными. Бывает, сутки ничего не происходит, двое суток, а на третьи ты за 15 минут делаешь репортаж. У нас так было в ту поездку, когда мы сняли обстрел с подсветкой. Я за всю войну таких кадров не снимал. И главное, что в такие моменты на тебя уже внимания никто не обращает. В рамках разумного ты можешь снимать, потому что не хочется умереть. Ты находишься в таком месте, и хочется снять еще больше, но нужно себе говорить «стоп».
— Есть у вас этот «стоп»?
— Здесь уже начинается азарт, сложно найти эту грань. Потому что когда начинается, ты в азарте начинаешь работать. Иногда перестает работать даже инстинкт самосохранения. Ты видишь эту картинку и знаешь, как ее нужно снять, а для этого надо рисковать. И здесь уже все зависит в какой-то части от судьбы и от опыта.
Я много раз был под обстрелами. Ты уже понимаешь, например, когда стреляет пулемет, когда — автомат, когда ты находишься здесь и тебе ничего не угрожает, потому что стреляют оттуда. Но когда начинается миноментный обстрел, ты понимаешь, что если прилетела одна мина где-то рядом, это значит, что прилетит еще одна и еще одна приблизительно в то место, где ты находишься. Ты слышишь залп, после него она летит 13 секунд, затем будет взрыв. Когда подлетает, она свистит. Если стреляют по соседней позиции, большая вероятность, что начнут стрелять и по тебе. Но ты рискуешь жизнью, потому что можешь это снять. Ты не хочешь потерять этот момент, потому что если ты его не зафиксируешь, возможно, никто никогда в жизни похожий момент не зафиксирует. Это то, что ты видишь, и тебе нужно передать эту картинку, чтобы не только в Украине, но и в мире увидели, что происходит.
— Вы считаете, что это нужно делать, рискуя жизнью?
— На войне всегда рискуешь.
— Не надоело вам за три года рисковать?
— Может быть, это странно прозвучит, но к этому привыкаешь и это затягивает. Я после того, как на Донбассе немного затихло, ездил в Ирак, снимал вблизи Мосула, ездил на границу между Сирией и Турцией, в Ливан, на границу с Сирией. Это сложно объяснить, но туда постоянно тянет. И уже эти риски — умереть или получить ранение — отходят на второй план.
— Можете сравнить степень безопасности работы в Мосуле и у нас в АТО?
— На любой войне, если ты снимаешь реально войну, а не постановку, небезопасно. Но принцип все тот же. Важное отличие: там работает авиация, и это страшная штука. Там все намного серьезнее, но и интереснее.
— Интереснее?
— У нас это больше история постсоветского пространства. А там — история всемирного масштаба. Любой нормальный журналист хочет находиться там, где происходят самые главные события. В Мосуле журналисты находятся в месте, о котором потом будут писать в книгах по истории. В этом, мне кажется, вся суть журналистики — находиться там, где творится история. Сейчас история Украины творится на Донбассе.
— Какая история в АТО была самой тяжелой для вас?
— Всегда тяжело, когда погибают люди, которых ты знал. Сложно адаптироваться к тому, что этот человек был, а ты находился в соседнем блиндаже, но этого человека уже нет. У меня было две ситуации, когда я чудом остался в живых. И это очень интересное чувство.
Я работал в Песках вблизи Донецка в конце 2014 года, мы снимали, как стреляют наши минометчики — они обстреливали территорию вокруг Донецкого аэропорта, чтобы пехота и техника боевиков не смогли подойти к терминалу. Мы сняли, и минометы российские с той стороны начали стрелять по нашим. Мина взорвалась совсем рядом, повезло, что был забор. Этот бетонный забор принял на себя все осколки. Мы спрятались в ангаре, по нему стреляли полчаса. Мы сидели в БТРе, и рядом со мной сидел медик, только что приехавший из аэропорта, он привез раненого, который умер по дороге. Мы курили, было слышно, как камни ангара падают на БТР. И он говорит мне: «Чувак, ты сидишь рядом со мной. Крыши уже почти нет. Если мина прилетит в этот БТР, точно будет контузия. Тебя будет тошнить, ты будешь блевать. Так вот, не на меня, а в сторонку». Меня это так развеселило, он снял напряжение.
Нам нужно было как-то оттуда выбираться. А наша машина, на которой мы приехали, была в соседнем ангаре, метрах в пятистах. Когда немножко затихло, военные сказали: «Минут десять будет тишина, они перезаряжаются, подвозят снаряды, и начнут снова или по нам работать, или по ангару, в который вы сейчас побежите. Можете остаться с нами, можете бежать и уезжать». Мы с оператором приняли решение бежать, чтобы уехать и передать снятые сюжеты. И вот эти пятьсот метров, которые я бежал к нашей машине мимо соседнего горящего здания… Я думал только об одном: только бы не услышать свист мины. Нам повезло, мы добежали и уехали, но все решали доли секунд.
Эта командировка вообще была фартовая, потому что через два дня мы попали под обстрел уже в Луганской области. Тогда по Бахмутской трассе захватывали 31-й блокпост, за него шли бои. Мы выехали из Лисичанска, и даже еще не надели бронежилеты. На дороге я увидел наших военных. Они стояли на обочине курили, и я сказал водителю: «Давай остановимся, я поговорю с ребятами, они же как раз оттуда». И только я вышел из машины, в нее прилетел снаряд. Мы все побежали в подвал, там было кафе заброшенное, даже не успели заглушить двигатель. Рядом стоял Урал, и он сгорел. Нас спасли считанные секунды.
Это, конечно, непередаваемое чувство, когда ты сидишь в подвале, снаряды попадают, бетонные стены трясутся, песок сыпется на тебя, и ты успеваешь подумать, что если эта бетонная плита не выдержит, то все мы сейчас здесь погибнем… Осколок пробил насквозь багажник и улетел задний номер. Пока мы сидели в подвале, познакомились с ребятами, это была львовская бригада. Где-то через три месяца я был в командировке во Львове, и мне звонят с неизвестного номера: «Здравствуйте, я Костя. Мы с вами были под обстрелом. Сейчас мы на ротации. Помните, у вашей машины номер оторвало? Я через месяц рыл окопы и нашел ваш номер. Я его забрал, могу вам передать по “Новой почте”». А я ему: «Костя, я как раз во Львове». Мы встретились, он передал мне его. Номер лежит у меня дома, он такой изогнутый, со следами осколков…
Но это все приходит потом. Потом понимаешь: вот машина, ты здесь сидел, вот осколок, который прошел здесь. Или бежишь и видишь полностью разбомбленное здание, а ты в нем находился. Но я же журналист, а не участник боевых действий. Намного сложнее приходится тем, кто воюет, — у них это все время. Я же к ним в гости приезжаю, по большому счету. Хорошие материалы обычно получаются, когда ты делаешь их о военных, а не о том, что вот я, такой прекрасный, приехал на войну. Это два разных жанра.
Фото: «Факты»