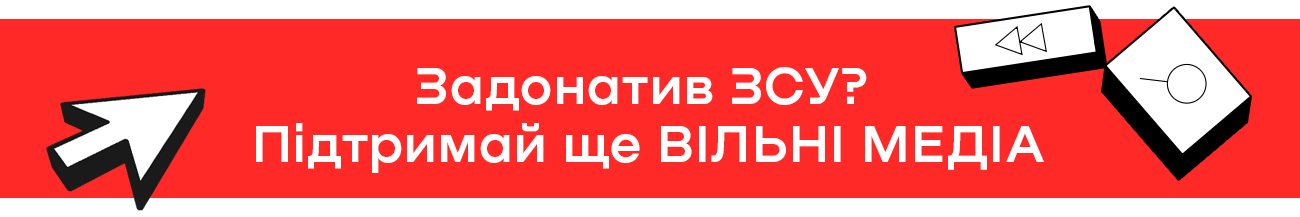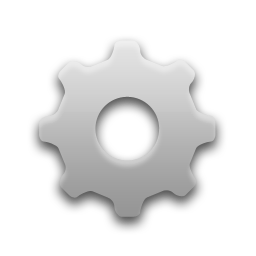«Нас просто не треба вбивати» — інтерв'ю засновниці російського інтернет-видання «Медуза»
«Нас просто не треба вбивати» — інтерв'ю засновниці російського інтернет-видання «Медуза»


«Люди хотят увидеть в медиа отражение собственных страхов»
В октябре вы писали у себя в фейсбуке, когда поздравляли коллег с днем рождения Медузы, о том, что поздравляете всех, кто причастен к этому «прекрасно безнадёжному делу». Без надежды на что?
Без надежды на победу добра, справедливости и правды.
А если бы эта победа состоялась, то как бы она выглядела?
Она по определению не может состояться. Не в этой жизни.
Вы знаете, очень часто, когда говоришь с польскими коллегами, они раз за разом говорят: «Вы знаетe, на постсоветском пространстве какая-то странная журналистская девиация. У нас в Польше колонка — это низкий жанр, публицистика вообще низкий жанр, она будет на второй-третьей полосе». А иногда создается впечатление, что на постсоветском пространстве это самый что ни на есть высокий жанр.
Нет, это не высокий, это дешевый жанр. Это вообще, как мне кажется, такая примета нашего времени: искать простые ответы на сложные вопросы. Касается это абсолютно всего. То есть если что-то случилось, то виноваты враги. Не знаю, как здесь, в Киеве, так или не так, но в России это так. Это простой ответ на сложный вопрос. На самом деле никогда так не бывает. Но колонка — это то же самое.
Возникает сложная проблема: касается это последних событий российского присутствия в Сирии, учения в Атлантике, секретного бюджета, скандала в одной из московских элитных школ… Есть сложный путь: собрать информацию, опросить действующих лиц, получить несколько комментариев, найти документы — это сложно. Есть простой путь: взять человека, который не стесняется высказать свое мнение и легко это делает, и опубликовать. Это дешево, просто и легко. Другое дело, что это не ответ на нынешнюю ситуацию: ни новостную, ни в медиапространстве в целом.
Другое дело, что, когда речь заходит о каких-то крупных профессиональных журналистских стандартах — форматах журналистского расследования, какого-то хорошего аналитического погружения в тему, например, если оно происходит в пространстве устоявшихся медиа, медиа с репутацией где-нибудь в абстрактной западной Европе, то журналист может понимать, что вслед за его публикацией могут последовать какой-то фидбек от правоохранительных органов и так далее. А на постсоветском пространстве этот принцип не работает.
Не работает. Я поэтому и говорю — дело безнадежное. Если и работает, то это бывает редчайшая удача. Это то, что мы называем журналистикой прямого действия. В нашей истории было два ярких случая. Один, когда мы узнали, то что в порту Коломбо в Шри-Ланке стоит российское научное судно, с которого вывезли ученых, но на нем осталась команда судна, и они 9 месяцев находятся там без еды, воды и электричества, и Российская Академия Наук не платит за это судно. Называлось оно "Академик Николай Страхов", нам удалось связаться с командой, и мы сделали репортаж об этом. После чего наконец судьба этого судна решилась, и оно пришло в Калининград. Вот это журналистика прямого действия.
Мне кажется, что люди утратили интерес к информации как таковой, люди хотят увидеть в медиа отражение собственных страхов или собственные взгляды на жизнь.
Такая же история была с серией публикаций нашего спецкора Катерины Гордеевой про обезболивание для онкологических больных. После чего московский департамент здравоохранения изменил правила выдачи обезболивающих, по крайней мере, на выходные и праздники, увеличив время, когда больные могут получить эти препараты. Но это редчайшая удача. Обычно, к сожалению, власти реагируют двумя способами: либо не замечают, либо говорят, что это написано врагами России, и они эту историю даже не хотят рассматривать.
Но цепочка журналистики прямого действия выстраивается так: вызывается общественное мнение по какому-то вопросу, общественное мнение давит, условно говоря, на политиков, политики стараются этот вопрос каким-то образом реализовать и реагируют на публикацию. На постсоветском пространстве вот эта прослойка из общественного мнения, она на что-то влияет?
Почти ни на что. Ну, во-первых, любое общественное мнение сейчас подвергается сомнению. Как со стороны власти, так и со стороны прогрессивной общественности. Если результат этого опроса или мнение не устраивает одну из сторон. Ну как бы дискредитирует институт общественного мнения или влияния общества как на СМИ, так и на власть, к сожалению.
То есть в тех случаях, когда была реакция на ваши публикации, это условно говоря, какой-нибудь чиновник, прочтя публикацию на Медузе, решил отреагировать в порядке благотворительности?
Я не берусь судить об их мотивах. Кто-то в порядке благотворительности, кто-то нет. Была своего рода громкая история, когда мы обнаружили, изучив документы, что Путин подписал один закон, а в Совете Федерации прошел другой. То есть администрация, Государственная Дума и Совет Федерации не сверили варианты изменений, а мы заметили, и они изменили тут же. В этом случае мы просто обратили внимание на явное несоответствие законодательства и практики.
А так, если это действительно касается такой истории, как помощь онкологическим больным, то здесь, я думаю, срабатывает инстинкт самосохранения. Потому что в глубине души каждый из нас думает: “А что если завтра я заболею? Не факт, что я получу обезболивание". Или абсолютно человеческая симпатия и взаимопомощь, потому что, когда мы опубликовали, например, про научное судно, застрявшее в Коломбо, русские, которые жили в Коломбо, начали привозить им туда воду, зарядки для мобильников и каким-то образом пытаться помогать и тоже писать об этом. То есть все-таки как-то это работает, но очень избирательно. Мы не можем предугадать, к сожалению. Какие-то истории нам кажутся невероятно громкими, но они не вызывает никакого общественного отклика.
Я спрашиваю об этом потому, что в идеальной модели общество является альфа и омега. Оно рождает запрос на журналистику, оно рождает запрос на определённое политическое предложение, а потом политики это политическое предложение генерируют. А если общество не является субъектом принятия решений, то для кого должно писать СМИ? Для кого пишет Медуза?
Все равно для общества. Другое дело, что я могу говорить о российском обществе, немножечко об украинском, потому что украинских читателей у нас достаточное количество, немножко белорусских читателей (о них тоже могу говорить) и немножко о странах Балтии.
Но что касается российского общества, то два года пребывания в конфликте, как внешнем, так и внутреннем, вызвали в российском обществе чувство усталости и апатии. По большому счету, уже немножко все равно. То есть люди хотят оставаться в зоне комфорта, люди хотят оставаться вне конфликтов, люди не хотят, чтобы им напоминали, что мир не просто несовершенен, а в общем и в целом неприятен.
То есть, условно говоря, работа в медиа без надежды на отклик: делай контент и бросай его в воду.
Ну фактически да. Мы все в какой-то мере отправляем бутылочку по воде, и где уж она всплывет... Другое дело, что кто-то делает эту бутылочку позаметнее, кто-то побольше и так далее, но вообще-то стало очень трудно предсказывать читательский интерес. Я-то думала, что за 20 лет я научилась, но за последние два года меня в этом разубедили.
Мы не можем практически никогда предсказать, какую реакцию это вызовет. Ну, например, есть в российском обществе такие зоны молчания, как украинский флешмоб "Я не боюсь сказать”, когда женщины рассказывали о случаях насилия и это подхватили российские читательницы. Конечно, это читали, но в российских медиа, во-первых, это было подано довольно двусмысленно, и, во-вторых, аудитория, как мне показалось, была не готова воспринять такую степень откровенности и открытости.
Если бы я боялась будущего, мы бы вообще не открыли Медузу. Потому что мы стараемся жить так, как будто над нами нет никакой угрозы: ни блокировки, ни объявления нежелательной организацией, ни прямых угроз со стороны недовольных
Возвращаясь к теме публицистики. У Барака Обамы нет своей политической партии, а скорее у Демократической партии есть Барак Обама. В то же время все политические проекты на постсоветском пространстве, они по большей части вождистские, и многие говорят, что и публицистика — это пример вождистской журналистики. Так может быть, это в обществе есть запрос на такую журналистику личностных местоимений?
Спасибо, это интересная мысль, я никогда об этом не думала и не смотрела на это в таком фокусе. Может быть.
Мне кажется, что люди утратили интерес к информации как таковой, люди хотят увидеть в медиа отражение собственных страхов или собственные взгляды на жизнь.
Грубо говоря если у нас есть читатель, который считает, что вокруг враги, страна в кольце врагов и что мир черно-белый, он будет искать себе медиа, в котором мир представлен таким же - черно-белым. Он не хочет разбираться в оттенках смыслов.
Я помню 2013 год, тогда социологи в Украине говорили о том, что 65% граждан не хотят протестовать, не способны выходить на улицы, объединяться на низовом уровне. А потом буквально через месяца произошли события в центре Киева, которые мы все помним. Вы говорите о высоком уровне апатии в российском обществе, которое истощено повесткой войны. Вы верите, что оно резко способно вас удивить?
Неделю назад мне страшно повезло, неожиданно у меня была аудиенция у Далай Ламы, я никогда не думала, что буду сидеть и разговаривать с такой исторической личностью. Но это было довольно интересно, потому что он сказал буквально следующее: "Я разговаривал с Хонеккером за две недели до падения Берлинской стены, и Хонеккер мне сказал, что стена будет стоять вечно, сказал: “Я вам это гарантирую". Но через две недели стена упала. Никто не знает, появится ли на дороге тот камушек, под который попадет колесо режима, когда все полетит к чертовой матери. Мы не знаем, к сожалению.
А вас будущее не пугает?
Нет, ну что вы! Чего бояться? Какой смысл? В этом смысле я очень поддерживаю позиции о том, что прошлое уже прошло, а будущее еще не наступило. Надо жить настоящим.
Если бы я боялась будущего, мы бы вообще не открыли Медузу. Потому что мы стараемся жить так, как будто над нами нет никакой угрозы. Ни блокировки, ни объявления нежелательной организацией, ни прямых угроз со стороны недовольных.
Если обращать на это внимание и все время бояться будущего, то ты не поднимешься вперед. Мы живем настоящим, делаем вид, как будто ничего этого нет.
Вы когда-то говорили о том, что Медуза — это история создания информационного прожиточного минимума, позже вы признавались, что в определённом смысле тот формат, который был выбран вами и который сегодня многие так или иначе пытаются копировать, он был определен финансовой реальностью, в которой вы создавали проект. Если пофантазировать, что у вас есть грант, какой-то открытый бюджет, как бы изменился проект Медуза?
Вот сейчас я даже не знаю, сейчас даже скорее никак особенно. Понимаете, в чем дело, я все время декларирую одну нехитрую мысль, что редакционная политика может меняться как угодно, но только не в целях выживания. Нельзя менять редакционную политику, потому что у тебя есть деньги или у тебя нету денег.
Ты можешь крутиться на три копейки, но делать что-то интересное, а можешь жить на миллионы и делать унылую ерунду.
Если говорить о светлом будущем, в котором у меня есть много-много денег, то в любом случае я направила бы их на технической совершенство всех платформ и на продвижение и маркетинг. Потому что контент, который мы делаем, он создается за счет экстенсивного развития. То есть это интенсивная работа всех служб в издании. Не хватает нам дистрибуции, как и всем остальным.
Ты можешь крутиться на три копейки, но делать что-то интересное, а можешь жить на миллионы и делать унылую ерунду.
В ситуации, когда очень много белого шума, когда источников информации огромное количество и когда мы с вами конкурируем и с социальными сетями в том числе, нам нужна очень хорошая дистрибуция. Нам нужно уметь хорошо себя показать себя читателю, обратить его внимание. Мы говорили о дефиците доверия, но прежде всего мы страдаем от дефицита внимания. Есть кризис доверия, а сейчас еще кризис внимания. Потому что внимание рассеяно между личной френд-лентой, в социальных сетях люди сидят безумное количество времени. Между сериалами, которые все смотрят в интернете. Между своей собственной почтой, своей собственной перепиской и мессенджерами. И как заставить обратить внимание аудитории на себя — вот это сейчас вопрос вопросов.
Когда-то Парфенов говорил, что с полной самоотдачей можно что-то делать для таких же, как ты.
Неправда. Я не думаю, что программу "Намедни", которая была невероятно популярна, он делал для таких же, как он. Он это делал для большой аудитории. В нынешней ситуации — да. Я знаю, что Леонид Геннадьевич отстаивает точку зрения, что в обществе нет запроса на честную журналистику. Мне кажется, что запрос есть всегда, другое дело, что нам приходится изобретать новые способы, чтобы донести информацию для людей. Мы не можем оперировать старыми приемами.
Все знают то, что называется human touch, то есть живое сочувствие к героям. То, что вошло в золотой фонд российской журналистики, журналистика факта, сейчас, когда факт искажается, не очень работает.
Мне кажется, что нам всем нужно заново научиться рассказывать истории людям. Что такое наша профессия на самом деле? Мы рассказываем истории. Те, которые касаются всех и каждого. Нам нужно заново научиться рассказывать истории так, чтобы они были не только для какого-то узкого сегмента читателей, но и для того, чтобы они давали новый опыт этим читателям. Пусть это будет мультимедиа, или пусть это будут подкасты, пусть это будет какой-то новый дизайн, новые форматы, текстовые даже, потому что все зависит от потребления, все зависит о того, как человек потребляет. Как минимум половина нас читает со смартфонов. И если сесть в кабинете у стоматолога или в ожидании открыть журнал, это вынужденное потребление.
Но как мы можем заставить человека заниматься вынужденным потреблением, когда у него в руках смартфон и он всегда может выбрать? Это во-первых. Это ни в коем случае не вынужденное потребление, он выбирает, это его собственного желание, что он сейчас прочтет на своем смартфоне. Во-вторых, мы попадаем в область личного, в область интимного, во внутренний круг читателя. Он достает нас из кармана. Там он переписывается с любимыми, там он ведет рабочую переписку, там он смотрит свои социальные сети, и туда же вторгается Громадское, Медуза... Как доказать им, что мы свои? Что мы такие же свои, как и те люди, с которыми он переписывался.
Почему я и говорю: если бы мне дали бы большой бюджет или я бы заработала миллион денег, то я бы все направила на исследования поведения аудитории, аналитику и техническое совершенство.
«Когда журналист обращается к низменному, он предает профессию»
Когда-то давно питерский журналист Дмитрий Губин написал о том, что в Украине есть журналистика, но нет журналистов, в России есть журналисты, но нет журналистики. Что создает условия для медиасреды в стране?
Я ненавижу обобщения. Как говорил один из моих любимых писателей Торнтон Уайлдер,"чем больше обобщение, тем больше погрешность". Обобщение это на самом деле и то, и другое — неправда. Здесь есть журналисты, и в России есть журналисты, и журналистика есть и там, и там, она в разных видах и в разном состоянии здоровья, но она есть. Я бы на месте украинских журналистов обиделась на Дмитрия Губина, хотя собственно чего обижаться…
Но если говорить о том, какие условия для журналистики, то в моем понимании особенных историй не нужно. Убивать не нужно. Вот когда начинают убивать и закатывать в асфальт, вот тогда журналистике трудно. Во всем остальном мы, в общем, ребята довольно закаленные.
Мы можем жить на подножном корму, и большинство моих знакомых журналистов, даже если бы им ничего за это не платили, все равно бы это делали, лишь бы их печатали. Лишь бы у них была возможность заниматься тем, чем у них есть возможность заниматься.
Я, по-моему, уже цитировала где-то фразу, которая мне дико понравилась, это афоризм о том, что СМИ должны напоминать власти о долге, а обществу — об идеалах. И это на самом деле одно из лучших определений.
Мы — тот самый гвоздь, который вбит в кресло, на котором сидит власть. И мы все время их беспокоим, потому что мы им напоминаем о долге перед обществом, а обществу мы должны напоминать об идеалах. И когда журналисты или люди, называющие себя так, обращаются к низшему, к низменному в аудитории, они на самом деле профессию предают, ну и себя в том числе. Когда они выслуживаются перед властью, они точно так же предают профессию. Для того, чтобы мы существовали, ничего особенного не надо, нас просто убивать не надо, а дальше мы сами справимся, мы вырастем, мы умеем это делать.
Но даже если в стране власть не пытается поставить журналистику на службу самой себе, то всегда существует дихотомия между потребностью работать с широкой аудиторией или предложением делать широкий формат. Есть какой-то компромисс между желтым бульварным и серьезным?
Во-первых, речь не идет даже о компромиссе. Я часто на лекциях привожу этот пример: есть короткий ролик в сети, он, по-моему, длится 72 секунды, в котором записан фрагмент лекции Виктора Франкла. Это великий психолог, специалист по суицидологии. Человек, который выжил в немецком концлагере, кажется, в Освенциме он был. Он выжил там. И выжил благодаря тому, что занимался наукой даже там. И он говорит: "Мне 70 лет, и я научился летать на самолете. И мне инструктор говорит: “Если тебе надо из точки А в точку Б, то ты всегда должен лететь выше точки Б. Потому что боковой ветер всегда собьет тебя ниже. Если ты будешь лететь выше, то когда-нибудь ты приземлишься в точку Б. Если ты будешь лететь строго, то ты уйдешь ниже”.
То же самое в отношении читателей. Если ты будешь думать о читателях лучше, чем они есть на самом деле, обращаться к лучшему в них, к высоким чувствам, к хорошим эмоциям, к эмпатии, то когда-нибудь твой читатель будет равен тебе. Боковой ветер все-равно будет сбивать сам себя. Если ты будешь думать о нем так, как он есть, или ниже, то все будет опускаться ниже, ниже и ниже.
Конечно, когда ты работаешь на большую аудиторию, когда мы работали в Ленте.ру, понятно, что приходилось немножко по-другому себя вести. Чуть упрощать, чуть более внятно рассказывать о вещах, которые тебе кажутся очевидными, но это не значит сползания в желтизну. Это значит уважение к читателю, это означает помнить, что читатель не должен на самом деле помнить должность Леонида Ильича Брежнева, предположим, он не должен помнить слова “генеральный секретарь политбюро ЦК КПСС”. Вот этого помнить он не должен. Ты можешь ему об этом напомнить, но это не означает сползания в желтизну ни разу. Ты просто чуть шире смотришь. Чуть громче говоришь. Чуть короче и чуть яснее.
Вы упомянули, что для создания медиасреды в стране нужно довольно немного. Нужно, чтобы журналист мог не переживать о том, с кем он встретился у собственного подъезда, но при этом многие формы в современной журналистике не могут существовать в отрыве от среды. Люди готовы платить за контент тогда, когда контент является основой в том числе для принятия бизнес-решений.
Безусловно.
Но при этом на постсоветском пространстве очень мало таких примеров. И есть ли они вообще хороший пейволл, например?
Ну, на самом деле пейволл в “Ведомостях” мне кажется нормальным, даже более того — хорошим. С одной стороны, в медиасреде это носит такое грубое обозначение, но оно по сути правильное — это первая статья бесплатно, первая, вторая, третья, а когда ты открываешь двенадцатую статью, то тебе говорят: “Дорогой, кажется, ты к нам приходишь очень часто, не хочешь ли заплатить?". Потому что ты уже как бы понимаешь, за что ты будешь платить. И тут уже вопрос решения. Это совсем неплохая история.
За прошедшие три года СМИ превратились в челядь. Это даже не обслуживающий персонал, а челядь, которой можно сказать: “Подай, принеси, пошел вон, убери со стола, уйди отсюда"
Плохая история — это когда сразу закрывают пейволл, мне это сразу не нравится. Но опять же, если говорить о том, готовы ли люди платить за контент, я согласна с Леонидом Бершидским, что действительно та информация, которая поможет принять решение в бизнесе, финансовые решения какие-то и еще что-то, вот за неё люди готовы платить. Но по-прежнему я остаюсь твердым сторонником того, что общественно-политическая информация должна быть бесплатна, потому что это как воздух и здоровье. Ты не замечаешь, что вокруг тебя много воздуха, и ты не замечаешь, что ты здоров до тех пор, пока тебе не становится душно или ты не заболел. То есть общественно-политическая информация — это воздух, которым мы дышим. И нельзя торговать воздухом.
Воздухом — безусловно. Но та информация, которая может повлиять на принятие бизнес-решений, она ведь нередко на постсоветском пространстве сосредоточена даже не в пространстве, а в закрытых данных, которые нужно проанализировать, систематизировать и предложить читателю какой-то экономический прогноз. Она сосредоточена в определенных властных кабинетах, и в этом смысле инсайдер намного важнее хорошего экономического аналитика.
Не верю. Это очень дискусионно. Это был один из пунктов, почему мы никогда не сойдемся с главным редактором радио “Эхо Москвы” Алексеем Венедиктовым, потому что он настаивает, что главный инсайд приходит из кабинетов и коридоров, но это совсем неправда. Из кабинетов, из коридоров обычно приходят сливы, которые делаются неизвестно для кого, ради кого и когда журналистов используют "в темную". Когда тебе озвучивают информацию, которая на самом деле звучит совершенно иначе и означает совершенно другое.
У меня есть довольно интересный аргумент, я обычно спрашиваю: а какие должности занимали Джулиан Асандж и Эдвард Сноуден? Да никаких. А кто произвел наибольший фурор в последнее время? Ну, может быть Панамский архив. И тоже эти журналисты не занимали никаких должностей, не ходили ни по каким кабинетам, они просто внимательно изучили данные, которые предоставил им источник, и изучали они не его слова, а документы.
Я спрашиваю об этом не просто так. Очень часто встречается мнение о том, что после 1991 года многие такие западные институты были скопированы на постсоветской почве, но в формате карго-культа, внешнего подобия без внутренних предпосылок, и многие говорят о том, что журналистская среда тоже была перенесена без тех общественных моделей, которые позволяют журналистике быть отделенной от власти, предполагают выход на самоокупаемость и так далее. Вы сейчас живете в Риге, опять же, сравнивая то, что происходит внутри Евросоюза в медиасфере и на постсоветском пространстве, вы можете сказать, насколько по-разному эти среды существуют?
На самом деле существуют совсем по-разному, и это еще одна забавная история, когда кто-то из журналистов из постсоветского пространства выступает на международных конференциях, нас не очень хорошо понимают. Потому что в их мире чиновник не может отказаться дать комментарий и, не имея на то никаких оснований, обвинить журналиста во лжи. В нашем мире это так. В их мире другие причинно-следственные связи. Поэтому, к сожалению, существуют два мира.
Ты не имеешь права переходить ни на чью сторону, как бы тебе ни хотелось. Да, ты можешь стать жертвой, но ты не можешь стать палачом, в этот момент ты перестаешь быть журналистом
Но ведь тоже, понимаете, в чем дело. Возьмем российский интернет. Он в течение пятнадцати лет был одним из самых свободных в мире, и мы практически не знали никаких ограничений. Но и российские медиа, кто бы как ни грешил на 96-ой год, когда российские СМИ объединились, чтобы Зюганов не победил на выборах, кто бы ни называл это точкой отсчета потери независимости, были свободны в своем выборе. Так голосовать или таким образом выражать свое мнение. Уверяю вас, что никто над главным редактором газеты “Коммерсант” не стоял с разговорами типа: “Или ты напечатаешь, что Ельцин хороший, или мы тебя уволим”. Тогда таких разговоров вообще не было. Тогда со СМИ вели переговоры, как ведут переговоры с партнерами.
За прошедшие три года СМИ превратились в челядь. Это даже не обслуживающий персонал, а челядь, которой можно сказать: “Подай, принеси, пошел вон, убери со стола, уйди отсюда".
Но у российской журналистики, у украинской журналистики, все равно есть некий опыт свободы, есть опыт независимости, есть опыт нахождения источников, больших расследований, поэтому я бы не стала говорить, что на Западе есть какие-то дикие традиции, а вот нам не повезло. Нам повезло. У нас, у граждан Российской Федерации, было 15 лет свободы, мы за это время много что успели. Да, сейчас мы проиграли, но это же не означает, что этого не было.
«Ты можешь стать жертвой, но ты имеешь права стать палачом»
Последние два с половиной года, после аннексии Крыма и оккупации Донбасса, произвели большие тектонические перемены, в том числе и журналистику поставили в пространство новых вызовов. Один из самых больших таких вопросов, которые сегодня обсуждаются в украинской медасреде, меняет ли война правила игры. Если есть внешняя агрессия, то как правила игры должны меняться?
Я боюсь, что в этом вопросе у меня мнение, которое не понравится никому. Я считаю, что если вы хотите изменить правила игры, то объявляйте состояние войны и военную цензуру, как в Израиле, и четко прописывайте правила. Вот это можно, вот это нельзя. Это по правилам.
Но когда я слышу, опять же приведу российский пример, как один из довольно уважаемых российских журналистов говорит: “Представьте, как вели бы себя журналисты в 42-ом году, обратите внимание на статью Ильи Эренбурга "Убей немца", вот мы и сейчас должны быть в таком положении", в этом случае я говорю: “А мы с кем воюем? Где объявленная война? Где указ главнокомандующего? Где введение военной цензуры?” Нет этого — значит, и правила не изменились. А прикрываться мнением общественности…
К сожалению, я с этим сталкивалась и у украинских коллег. Они говорят: нас аудитория не поймет, если мы дадим слово другой стороне, например. Или: я никогда не дам слово российскому пропагандисту, потому что аудитория меня не поймет. Мне кажется, что журналист ровно в этот момент точно так же забывает о принципах своей профессии. Ты можешь спросить и поставить вопрос так, что этот же самый российский пропагандист, или военнослужащий, или тот же самый депутат вынужден будет тебе отвечать или убежит, но это тоже информационный повод. Это тоже иллюстрация. Закрываться и говорить, что никогда не дашь слово тем, кто с той стороны, - это тоже неправильно.
Если говорить о роли журналиста, особенно когда война не формализирована в том виде, в котором они проходили в середине прошлого века, когда отсутствуют четко прописанные правила игры, это всегда ставит журналиста в положение функции, которая действует в рамках определенных выверенных математических формул, или у него все-таки есть свобода действий?
Очень сложный вопрос. Видите ли, есть некоторое количество прописанных правил, но они тем не менее не делают человека функцией. Помните есть такой ролик, который называется "одна сотая секунды". Который начинается с того, что журналисту вручают премию, она вспоминает, что в этот момент она делала съемку, но не защитила или не оттолкнула, или не закрыла собой девочку, которую в конце концов расстреляли. Кажется, речь шла о Балканском конфликте. Да, конечно, но правила тем не менее есть.
Есть старый, советский еще фильм, в котором есть хорошая фраза: “Не знаешь, как поступить, поступай по закону". В этом смысле законы журналистики достаточно простые. Ты не имеешь права переходить ни на чью сторону, как бы тебе ни хотелось. Да, ты можешь стать жертвой, но ты не можешь стать палачом, в этот момент ты перестаешь быть журналистом.
У меня есть, к сожалению, украинская история, которая произвела на меня очень тяжелое впечатление, когда-то украинский Esquire предложил нам репортаж из донецкого аэропорта, чтобы опубликовать на Медузе, когда мы начали читать, мы поняли, что журналист пишет репортаж о том, что он взял в руки оружие. Понимаете, этого нельзя публиковать никогда. Нигде. Это точно так же, как российские актеры, помните они похвалялись тогда, что они взяли в руки оружие в Донецком аэропорту. Журналист тем более не должен эту границу переходить.
Взять в руки оружие — это определенная такая крайность, это абсолютный уход в гражданскую позицию из профессиональной. Но всегда же есть какие-то оттенки, всегда же есть возможность, когда, не уходя в крайность, ты все равно оказываешься в пространстве внутреннего спора с самим с собой.
В этом смысле в журналистике тоже все устроено довольно просто. Я знаю российские законы и не знаю насчет украинских законов, но вообще СМИ устроены всегда одинаково: ответственность за контент, или за содержание несет главный редактор. Журналист не один в поле воин. У журналиста всегда есть редактор, который дал ему задание определенное и который примет у него работу. Над этим редактором есть главный редактор, который принимает решения.
Другое дело, что политика издания должна быть достаточно прозрачной и заявленной. Не должно быть никаких умолчаний. Все знают, что газета “Нью-Йорк Таймс” было продемократичской, они абсолютно откровенно выступают: да, мы за Демократическую партию, читая наши статьи, делайте скидку на это. Учитывайте это. “Фокс Ньюз” всегда были прореспубликанскими, мы сейчас говорим об Америке. Но точно так же над журналистом всегда есть главный редактор или редактор просто.
Если редактор поставил такую задачу, журналист ее выполнил и редактор берет на себя ответственность и принимает решение о публикации, то в этот момент ответственность журналиста отступает и наступает ответственность редактора. Не журналист это публикует, это публикует редактор, после проверки, после фактчекинга, после пруфридинга, после юридической службы и так далее, бывают разные истории, разные расследования, которые приходится проводить через все обязательные пункты. И после этого редактор смотрит и говорит: “Мне отвечать перед читателем за содержание моей газеты, моего сайта, моего журнала и так далее”. То есть в этом смысле журналист не один в поле воин, это коллектив в любом случае. Но ответственность не коллективная, ответственность за финальную публикацию всегда лежит на главном редакторе. Во всяком случае в моем мире это так.
“СМИ - это история про человека, а не про государство”
Я помню, когда-то Леонид Бершидский говорил о том, что универсальная и распространенная позиция в СМИ, что СМИ должны быть на стороне слабого. Если даже идет столкновение олигарха и государства, но государство куда сильнее, чем олигарх, то нужно быть на стороне этого бизнесмена.
Это не значит, что нужно прятать факты. Ты можешь в любом случае построить историю так, что будет понятно, кто здесь сильный, а кто слабый, но это не значит, что ты имеешь право спрятать хотя бы один факт или замолчать его, утаить.
Никто из нас не ангел, и все в той или иной степени находятся между ангелом и демоном. И когда в истории все выглядят достаточно нехорошо, то значит, история удалась. Пример тому — наше расследование про Михаила Ходорковского. Большего дурака, чем я, в этом расследовании нет. Я выгляжу там максимально некрасиво, но это тоже правда.
Но вот эта формула про сильного и слабого и сочувствие слабому, она работает не только на уровне государства и бизнесмена, она работает в том числе на уровне конфликта государств. Вообще вся медиавойна, которой сопровождаются сегодня истории про Донбасс, это информационная битва за право считаться слабым. Официальная Москва транслирует позицию, что большой украинский Голиаф сражается с маленьким донецко-луганским Давидом, а Украина говорит о том, что она сегодня в роли 300 спартанцев, которые сражаются с войсками персов, многократно их превосходящими. Но опять же, вы говорите о том, что для СМИ нормально сочувствовать слабому, опять же, можно ли эту логику перенести с внутренних государственных конфликтов на межгосударственные?
Не знаю, мне кажется, что все СМИ — это история про человека, а не про государство. Каждый раз, когда мне говорят о государственных СМИ, я все время отвечаю: “Ребят, пожалуйста, не бывает государственных СМИ". Бывают общественные и антиобщественные. Потому что государство собирает с нас налоги и дает деньги СМИ, с тем чтобы информировать общество, ну, это в идеале.
И когда, например, президент Российской Федерации на юбилее государственного телеканала говорит: “Задача СМИ - оказывать информационное сопровождение государственной власти", в этот момент я вскипаю и начинаю ругаться с телевизором, с монитором. Как мне кажется, медиа должны быть не про государство, а про людей. У государства должны быть политологи, МИД, ООН, НАТО и любые другие официальные структуры, которые на этом сосредоточены. Медиа и СМИ должны быть про людей.
Все разговоры о величии России говорят о прошлом: "у нас была прекрасная эпоха", "крушение Советского Союза — крупнейшая геополитическая катастрофа”, "война", "победа" — я прекрасно понимаю, на каких струнах играют эти люди
Есть хороший пример из романа "Унесенные ветром", когда женщины-южанки обсуждают, ухаживать или нет за могилами северян, которые погибли у них там. И одна из героинь говорит: "А вы бы хотели, чтобы за могилами ваших мужей на Севере ухаживали? Или вы хотели бы, чтобы их затоптали?” Это не про медиа, но в этот момент ты понимаешь, как поворачивается история, и ты видишь, что за каждым из государств стоят люди. Государство — это не машина, а те люди, которые за ним стоят, то есть общественность. И как только ты вызываешь сочувствие к одному человеку, это автоматически переносится и на все остальное. Поэтому лучше про людей, а не про государство.
“Нельзя жить обращенным в прошлое”
Еще одна дискуссия, которая ведется в украинском обществе, она как раз и про государство, и про людей. Владимир Путин — это производная от российских общественных настроений или российское общественное настроение — это производная от коллективного Кремля?
Здесь тоже нет однозначного ответа. Безусловно, к сожалению, президент Российской Федерации запустил в российском обществе процессы, которые без него не были бы запущены. Например: люди, окружающие его, настаивают на том, что как минимум правда у каждого своя, но на самом деле правды нет вообще. Но они не понимают, что они цитируют Сальери: "На свете правды нет, но нет её и выше". Это плохой источник для цитат.
Конечно, без Владимира Путина и его окружения Россия не была бы так повернута в прошлое, а не в будущее. Потому что все разговоры о величии России говорят о прошлом: "у нас была прекрасная эпоха", "крушение Советского Союза — крупнейшая геополитическая катастрофа”, "война", "победа" — я прекрасно понимаю, на каких струнах играют эти люди. Без них этого не случилось бы. Потому что мы же видели, что это травматичное прошлое, оно было прожито, но не пережито.
И теперь, поскольку в обществе была необходимость пережить и переосмыслить это прошлое, опять же и Владимир Путин, и кремлевская администрация, предложили очень простые ответы на очень сложные вопросы. В прошлом все было прекрасно, солнце было ярче, трава зеленее, а правители были прекрасные, но враги все порушили и так далее. То есть это очень простая картина мира. Это большое искушение — принять эту картину как базу дальнейших построений.
Конечно, если бы во главе России стоял бы другой человек, с более сложным мировосприятием, скажем так, воспитанный в других условиях, не в школе ФСБ, не подозревающий в каждом злого умысла, наверное, все пошло бы по-другому. Но и российское, и постсоветское общество тоже было готово, потому что во время перестройки и начала 90-ых годов мы узнали страшную правду, мы узнали что-то об истории нашей страны, чего не знали до этого. Мы это не отрефлексировали, мы это не проговорили, мы не договорились, как мы с этим всем будем жить дальше.
И сейчас что делает российское общество? Оно просто отметает вот это знание и говорит: я не знаю, что с этим делать. Давайте сделаем вид, что его не было. И все, и возвращается в прошлое. Нельзя жить обращенным в прошлое. Я честно признаюсь, что я искренне ненавижу советскую власть, ну просто совсем, но даже я вынуждена признать, что у коммунистов и советской власти был посыл, который находил отклик у всех и даже у меня. Ведь основной посыл был какой: наши дети будут жить лучше нас, в более справедливом обществе. И каждый взрослый человек говорит: “Сколько там той жизни осталось, главное, чтобы детям все было хорошо”. И это было движение вперед. Оно было очень сложным, но тем не менее основной посыл был таким: завтра будет лучше, мы будем жить в более справедливом, в более честном обществе, мы светлое будущее построим и так далее.
Вы слышали хоть раз такое от российских руководителей? Я - нет. Что наши дети будут жить лучше, чем мы? Нет, мы говорим о том, что “восстановим величие России”, “у нас было прекрасное прошлое” и так далее, ни одного слова о будущем, о том, что ждет наших детей. О мирном небе над головой в конце концов. Об этом я не слышу, к сожалению.
Павло Казарін, "Громадське"