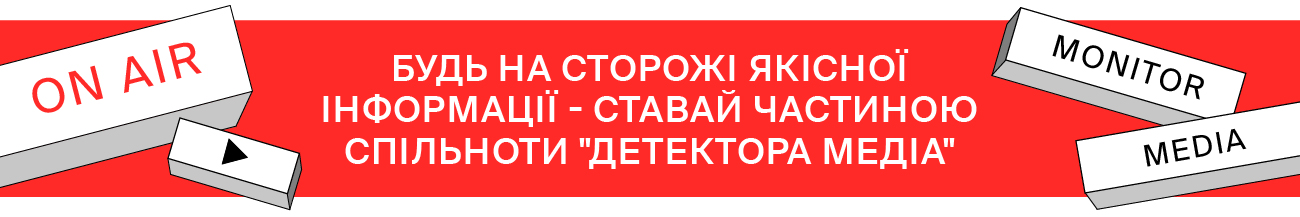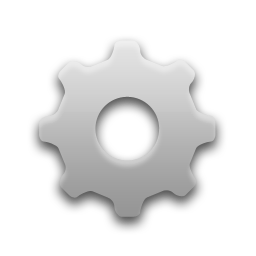Почему смерть стала публичным действием и как на это реагировать
Почему смерть стала публичным действием и как на это реагировать


Когда-то этическая сторона такой профессии, как журналистика, выглядела совершенно иначе. Похороны снимали с особых ракурсов, кадры, на которых запечатлена смерть, размывали и ретушировали, а в материалах, содержащих «опасный» контент, давали предупреждение: для 18+ или даже 21+.
Все начало меняться в 2014-м, когда на Майдане Независимости во всю бушевала Революция достоинства. 22 января того года во время противостояний на улице Грушевского был застрелен 20-летний Сергей Нигоян. Убийство вызвало шок и резонанс, и в подтверждение того, что Нигояна действительно застрелили свинцовой картечью, в соцсетях стали распространяться видео из морга — там патологоанатом показывает отверстия от пуль на теле мертвого парня. Тот ролик, наряду с предысторией — кадрами, где майдановские врачи пытаются спасти жизнь Нигояна, перекочевал в блоги и СМИ. Я бы назвала этот момент началом. Потому что после убийства Сергея все изменилось.
Дальше были новые смерти на Майдане. За убийствами протестующих на Институтской в прямом эфире наблюдали миллионы. Я помню дни, когда это происходило. Мы сидели в редакции, нужно было заниматься плановой сдачей номера, но никто не мог этого делать. Все с замиранием сердца наблюдали за тем, как в центре столицы один за одним падают подстреленные люди. Эти кровавые кадры — смерть в прямой трансляции, внесли свою лепту в развитие, условно говоря, «журналистики смерти». В попытке установить правду, найти убийц и показать родственникам последние минуты жизни их близких эти кадры стали распространяться везде — в соцсетях и в СМИ, без ретуши и заблюривания. Скрывать было нечего и незачем. Мы столкнулись со смертью лицом к лицу. Кадры, на которых на троллейбусной остановке возле отеля «Казацкий» в ряд выложены тела погибших мужчин, накрытых флагами и пледами, пожалуй, навсегда врезались в память каждому, кто хоть раз их видел. Такое не забывается.
Произошедшее с нами во время Евромайдана навсегда изменило «правила игры». Журналисты перестали церемониться, освещая смерть, а аудитория, десятки раз пересматривающая шокирующие кадры, не задает вопросов о том, корректно ли выставлять такое на всеобщее обозрение.
Следующей частью этого пазла под названием «журналистика смерти» стала гибель Кузьмы Скрябина в феврале 2015-го. Кадры с места аварии, в которой погиб музыкант, мгновенно разлетелись по соцсетям и СМИ. Среди них была и съемка одного из телеканалов, которую окрестили некорректной и скандальной, попросив убрать из сети. Но видео уже подхватили другие пользователи — на нем показали бездыханное тело Кузьмы, даже не удосужившись заблюрить лицо.
Война на Донбассе окончательно сняла со смерти покровы и превратила это явление во что-то пугающе обычное, не побоюсь этих слов — иногда даже будничное и привычное. Именно она, война, превратила нашу информационную реальность в одну сплошную войну. Если когда-то рубрику «Происшествия» заполняли сводками из ДТП, случаями изнасилования и пьяными драками, то теперь все это меркнет на фоне новостей из Донбасса и фотографий со ставших привычными прощаний с погибшими бойцами в самом сердце Киева, на Майдане Независимости.
В Фейсбуке без каких-либо предупреждающих подводок, ретуши или цензуры распространяются фотографии и видео с поля боя, издевательства над пленными, видео после бомбежек, где полуживые мирные жители Донбасса просят о помощи, истекая кровью, истерзанные тела бойцов и остатки этих самых тел после особо жестоких битв. Пример этому — репортажи того же Сергея Лойко из ДАПа. Среди этих фото — небезызвестный снимок, на котором бойцы спасают из-под обстрелов обугленные останки своего побратима, сложенные в деревянный ящик. Он даже вышел в печати — в книге о боях за Донецкий аэропорт. Подпись к снимку гласит, что на нем изображено бедро подорвавшегося военного. Никакой цензуры. Подобное наблюдалось и во время катастрофы МН-17 — тогда тоже разлетелись нецензурированные снимки с места трагедии, на которых было отлично видно и обломки самолета, и то, что осталось от пассажиров этого рейса.
Особенно будничной стала такая реальность для журналистов. Я сужу по себе и коллегам, с которыми общалась на эту тему, и могу сказать, что у многих все это переросло в так называемую профдеформацию. Это когда впервые у тебя, как и у всех нормальных людей, реакция на новости из АТО адекватна происходящему. Смерть пугает, количество потерь на войне ужасает, новости о трагедиях и катастрофах заставляют задуматься. Но стоит поработать «в теме» несколько месяцев — и даже самые жуткие подробности и фотографии в стиле «кровь, кишки и расчлененка» перестают пугать и удивлять. Я с ужасом осознала это во время той же катастрофы МН-17: мы с подругой, далекой от журналистики, которая не читает новости каждый день, пошли под голландское посольство в Киеве в тот самый первый вечер после трагедии. Она разрыдалась от вида цветов, свечей и трогательных бумажных самолетиков. Я — нет. Меня даже ничего не «торкнуло» внутри. И это — страшно.
Ежедневная работа с информацией такого рода превращает журналистов в роботов. Правду говорят, что человек может привыкнуть ко всему. Но хорошо ли это? Можно ли как-то вернуть адекватную реакцию, снова стать человечнее? Или это — уже навсегда?
Иногда я задумываюсь и пытаюсь пофантазировать, о чем бы писала сейчас, если бы не было войны. И не могу представить. Война и смерть словно заполнили собой все пространство, сделавшись частью обычной жизни. Тенью, которая ходит за спиной и отражается темным бликом на всем, что происходит помимо этого. Можно ли излечиться от этого «заболевания» — информационного вируса, который накрепко засел в восприятии? И главное, станем ли мы воспринимать смерть так, как раньше — как трагедию, а не статистику, как что-то непубличное и «не для всех»? Или теперь она навечно будет оставаться на виду такой же едва уловимой тенью?
Возможно, на это нужно будет время. Много времени. Но пусть сначала закончится война.
Фото - ghall.com.ua